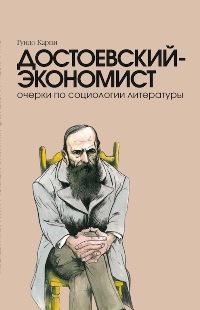 В издательстве Фаланстер" вышла в свет работа Гуидо Карпи «Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы». Главные современные исследователи Достоевского возможно, отнесутся к работе молодого итальянского специалиста по русской литературе с иронией. Если в советские годы и можно было заниматься в основном социологией романов Достоевского, то сейчас впору изучать всю его, так сказать, широту. Но Гуидо Карпи понимает, что чересчур «широкого» Достоевского можно и сузить, и в результате находит темы, о которых написано катастрофически мало. Например, теме «Достоевский и деньги» до Карпи была посвящена лишь одна англоязычная статья, ну а статистические расчеты, вдохновленные идеей Ярхо о математизации гуманитарных наук и выявляющие в текстах Достоевского точное соотношение денежной темы с темой агрессии, понятное дело, до него никто не производил. И не цитировал в связи с этими же темами так часто и, как ни странно, всегда к месту Пазолини и Беньямина, добавляющих в эту емкую и актуальную работу каких-то прямо неореалистических и неомарксистских настроений.
В издательстве Фаланстер" вышла в свет работа Гуидо Карпи «Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы». Главные современные исследователи Достоевского возможно, отнесутся к работе молодого итальянского специалиста по русской литературе с иронией. Если в советские годы и можно было заниматься в основном социологией романов Достоевского, то сейчас впору изучать всю его, так сказать, широту. Но Гуидо Карпи понимает, что чересчур «широкого» Достоевского можно и сузить, и в результате находит темы, о которых написано катастрофически мало. Например, теме «Достоевский и деньги» до Карпи была посвящена лишь одна англоязычная статья, ну а статистические расчеты, вдохновленные идеей Ярхо о математизации гуманитарных наук и выявляющие в текстах Достоевского точное соотношение денежной темы с темой агрессии, понятное дело, до него никто не производил. И не цитировал в связи с этими же темами так часто и, как ни странно, всегда к месту Пазолини и Беньямина, добавляющих в эту емкую и актуальную работу каких-то прямо неореалистических и неомарксистских настроений.
http://clck.ru/0xpUT
Сам Гвидо Карпи охарактеризовал свою работу так: "Эта книжка сложилась из работ, вызванных к жизни историко-литературным и теоретико-методологическим замыслом, согласно которому историческая реальность является единственно возможным объектом искусства: «любое культурное творчество, – писал Люсьен Гольдман, – одновременно индивидуальное и общественное явление, оно располагается между структурами, созданными личностью автора, и категориями, выработанными общественной группой, в которой сформировалась эта личность».
Проблемы ставит история. Конечно, определенный общественно-исторический момент - не статичный пейзаж, воспроизводимый на речевом холсте, но пучок самых разных действий, противодействий и взаимоотношений, которые в прошлом находят свои предпосылки и открываются к многочисленным возможным будущим: нередко создателями великих произведений мысли или искусства являются представители обойденных или побежденных групп данной эпохи. Художник не «воспроизводит» и не «отражает» историческую реальность (она, динамичная и противоречивая, не поддается «воспроизведению»), но отбирает определенные явления и тенденции, чтобы переорганизовать их во вторичную структуру – произведение искусства, которая переориентирует (как прообраз) мировоззрение определенного социального круга и содействует определению его исторической роли, его близкого будущего, объективированного в условном художественном настоящем. Что социальное сознание не отражает мир, но строит и организует его, комбинируя элементы эмпирии, рассортированные согласно оценочному (аксиологическому) критерию, хорошо понимал уже Александр Александрович Богданов, крупнейший теоретик-марксист начала ХХ века.
Сортировка может касаться элементов содержания: например, в ранней статье о судьбах русского дворянства в «Идиоте» я рассматривал повествовательную структуру романа с точки зрения прямых или косвенных социоэкономических высказываний, рискуя – при всем обилии материала – несколько упростить постановку вопроса. В более поздних работах, включенных в настоящую книгу, я постарался перешагнуть через свой изначальный «вульгарный социологизм» (кстати, этот перегиб отчасти оправдан: меня вынудила на него потребность в здоровой пище, сложившаяся в результате десятилетий постмодернистского солипсизма) и учесть более глубокие формы гомологии, касающиеся поэтики. Сквозная связь между темой денег и темой агрессии, как и некоторые другие особенности поэтики Достоевского (цепь «эмблематических испытаний», превращение реальности в фантасмагорию символов-фетишей и т.д.) объяснимы лишь на фоне наиболее характерных особенностей общественно-экономического развития России периода отмены крепостного права. Зрелый Достоевский воспринимает вполне конкретный исторический кризис как кризис рационально осмысливаемой истории вообще и ищет способы выражения «надвременного», просвечивающего сквозь исторические события.
За пределами этой книги остались мои наблюдения относительно общественно-экономической почвы, на которой возникла классическая русская литература в эпоху от Карамзина и до Гоголя - подробно об этом периоде я написал в своей общей «Истории русской литературы от Петра Великого до Октябрьской революции», которая, надеюсь, рано или поздно увидит свет и на русском языке". ( http://clck.ru/0xpW9)
Карпи давно интересуется Россией, он — автор «Истории русской литературы», первого подобного издания на итальянском языке. И, в отличие от российских литературных критиков, он не стесняется связывать творчество писателей с социально-экономическими особенностями эпох их творчества.
Так, русская литература первой половины XIX века в основном была основана на "паразитизме" писателей – позволить себе заниматься сочинительством могли позволить себе только помещики, фактически – рабовладельцы. Достоевский – первый крупный писатель той поры, вынужденный сделать творчество средством к существованию.
Мы публикуем главу «Русские внуки Эжена Растиньяка» из книги Гуидо Карпи.
«После возвращения Достоевского из сибирской ссылки экономическая проблематика приобретает у писателя более сложные и тревожные черты; и это неудивительно, учитывая характерные черты русской «модернизации» после отмены крепостного права (кстати, типичные для периферийных капиталистических систем, где извне навязанная модернизация наслаивается на комплекс в большинстве своем архаичных норм и отношений): «катастрофическое» развитие экономики, которую раскачивают волны ажиотажа и спекуляций и кризисы в ноябре 1863, в конце 1869 и (самый тяжелый) в октябре 1875 года.
Неслучайно в «Игроке» Достоевский проводит знак равенства между механизмами, которые регулируют финансы, и логикой азартных игр. Вообще о диалектических отношениях между капиталистическим финансово-спекулятивным накоплением и игровыми механизмами уже писал В. Беньямин в связи с поэтикой Бодлера, основанной на эстетике сна и фантастическом искажении пространства и времени, а также по поводу «расцвета спекуляции» в орлеанистской Франции: «Игра на бирже оттесняет пришедшие из феодального общества формы азартной игры. Фантасмагориям пространства, в которые погружается фланер, отвечают фантасмагории времени, охватывающие игрока. Игра превращается в наркотик».
Впрочем, здесь немецкий мыслитель лишь кратко подводит итоги изучения явления, уже давно отмеченного марксистской социологией, — речь о психологических и поведенческих эффектах, вызванных превращением промышленного капитализма в финансовый. «Все современное экономическое развитие стремится мало-помалу превратить капиталистическое общество в обширный международный игорный дом, где выигрывают и теряют капиталы, благодаря событиям, которых они не знают, которые ускользают от всякого предвидения, всякого расчета и которые, кажется им, зависят от удачи, от случая, — читаем в статье начала века, помеченной Беньямином в ходе работы над эссе «Париж, столица XIX века». — «Непознаваемое» царит в буржуазном обществе, как в игорном доме. Игра, которая откровенно ведется на бирже, была всегда одним из условий торговли и промышленности: риск так велик и непредвиден, что часто операции, лучше всего задуманные, рассчитанные и проверенные, не удаются, тогда как другие, предпринятые наобум и представленные своему течению — удаются. Этот успех и неуспех, обязанные неожиданным причинам, обычно известным, и, как кажется, зависящим лишь от случая, предрасполагают буржуа к настроению игрока». Из видимой иррациональности финансовой «игры» рождается фантасмагорическая и «демоническая» сила денег:
Но игрок (…) в высшей степени суеверен, у всех завсегдатаев игорных домов имеются магические формулы заклинаний судьбы; кто-то бормочет молитву Св. Антонию из Падуи или какому-нибудь другому небесному святому, другие садятся только если выпадает определенный цвет, иные сжимают в левой руке лапу животного и т.д. «Непознаваемое» социального порядка окружает буржуа, как «непознаваемое» естественного порядка окружало дикаря.
Этот анализ верен для таких стран, как орлеанистская Франция, и тем более для России, стран, которые не имели английского опыта мануфактурного развития, в которых финансиализация экономики приводила к разрушительным последствиям, не смягченным стабилизирующей ролью отсутствовавшего там промышленного сектора. Чем все это должно было закончиться, поняли и описали — с большой долей крайне чуждой Достоевскому патриархально-дворянской ностальгии — Пушкин в «Пиковой даме» и Гоголь в драматическом фрагменте «Игроки», где забавные жулики без колебаний сравнивают «командную игру» мошенников за зеленым столом с политэкономическим понятием разделения труда.
Гоголь намекал на то, что если в Европе падение феодальных отношений в результате капиталистического разделения труда приводит к промышленному производству и накоплению капиталов, то в России феодализм в процессе разложения проходит тот же путь в других формах паразитического существования, таких как азартные (шулерские) игры или спекулятивные операции разного масштаба: по Лотману, еще со времен екатерининского фаворитизма «причудливое перемещение богатств невольно напоминало перемещение золота и ассигнаций на зеленом сукне во время карточной игры».
Франция времен Июльской монархии была во многом схожа с Россией 50-х годов, однако на берегах Невы спекулятивный капитализм приобрел особенные, куда более грубые черты, которые существенно повлияли на степень «фантасмагоричности» творчества писателей вроде Достоевского — в сравнении с художественно-литературными процессами, проанализированными Беньямином. Среди этих социально-экономических черт выделяются бессвязность, а часто и противоречивость элементов, составляющих общественный строй: одни — буржуазные, другие — феодальные, третьи — относящиеся к общинно-родовому строю. Отсюда и легкость, с которой традиционно паразитическое феодально-аграрное сословие трансформируется (правда, отнюдь не во всех его представителях) в паразитическую же финансовую верхушку: эта ситуация с предельной ясностью проиллюстрирована в романе «Идиот» образами «благородных» дельцов (Тоцкий и Епанчин), которые, впрочем, уже не представимы без выскочек вроде Птицына. Перефразируя известное высказывание Маркса о Германии, можно сказать, что с этого момента Российская империя начинает переживать одновременно капитализм и его недостаточное развитие.
В 1854-1859 годах Достоевский, после освобождения от исправительных работ отбывавший службу в дальнем степном гарнизоне, получал вполне ободряющие известия о том, что происходит в метрополии. После Крымской войны и смены императора деспотический застой казался уже далеким прошлым: «(…) общество напрягало все силы, чтобы создать себе новое независимое положение и перенести центр тяжести общественной инициативы на себя. И правительство (по крайней мере, поначалу) не видело в этом ничего несогласного с его желанием» — так в старости будет отзываться об атмосфере 1856-1858 годов Николай Щелгунов. Позднее эту эпоху будут вспоминать в основном как прелюдию к отмене крепостного права, однако ее современники нередко подчеркивали головокружительный дух наживы, который, освобождая на первый взгляд бесконечное движение капитала, начал уничтожать государственные монополии: «Словом, — комментирует Щелгунов, перечисляя виды деятельности, в которых эти капиталы легко находили употребление, — реакция против прежнего всепоглощающего государственного вмешательства и казенного руководительства была не только всеобщей, но и легла в основу общественно-экономических реформ и всей системы государственного хозяйства прошедшего царствования».
Схожий анализ предлагают и политики гораздо более умеренных взглядов: «[Правительство] поощряет частные предприятия (…); оно понизило банковый процент, — докладывал в конце 1857 года будущий министр финансов Михаил Рейтерн великому князю Константину Михайловичу, покровителю тех просвещенных бюрократов, которые занимались разработкой буржуазных реформ. — Благодаря богу правительство поняло, что надобно развить источники народного богатства». Намек Рейтерна на понижение процентных ставок (с 4% до 3% годовых) не кажется случайным: мощный стимул для привлечения частных капиталов в промышленность, переоценка ставок была на самом деле вынужденной мерой. Она должна была облегчить бремя государственной кредитной системы, истощенной во время войны. Тем не менее последовавшие за понижением процентных ставок инвестиции в частный сектор были внушительными: так, послевоенные годы ознаменовались мимолетным «золотым временем» в экономике, которое в гиперболичной форме описал уже упоминавшийся выше приверженец либерализма Владимир Безобразов: «И простые рабочие, и фабричные, и фабриканты, и купцы всюду говорили нам об этом времени: «Мы тогда озолотились». Фабрики не успевали изготовлять товары, которые быстро расхватывались; строились новые фабрики и расширялись старые; удваивалось число рабочих часов, работали ночью; цены на товары и заработки росли непомерно».
Волна финансовых спекуляций радикально меняет существование и образ мышления населения империи: если в 1830-1852 годах в России появлялось не более двух акционерных обществ в год, то с окончанием Крымской войны их число показательно растет (1856 — 6; 1857 — 14; 1858 — 39). «Не успеет составиться новая акционерная компания, смотришь, все ее акции разобраны нарасхват до дня официальной продажи, и тотчас же начинают ходить из рук в руки с надбавкой», — провозглашал «Вестник промышленности», и там же приводились характерные примеры: желающие приобрести акции новой компании «у дверей конторы прождали целую ночь, и при открытии дверей только весьма немногие получили желанные бумаги». Жаждущих наживы спекулянтов было так много, что «началась теснота, давка, были и такие, которым сделалось дурно, другие принуждены были вылезать в окно, потому что назад протесниться было невозможно».
Достоевский по пути из Сибири в августе 1859 года останавливался во Владимире, там он встретился с Михаилом Хоментковским, начальником провиантской комиссии (семипалатинским штаб-офицером и добродушным пьяницей, знакомым писателю еще по ссылке), который сразу объяснил желавшему обустроиться Достоевскому, откуда дует ветер: «(…) лучше всего места частные. Развелось столько частных компаний, управлений, обществ, что люди честные и добросовестные нужны донельзя, жалованья колоссальные».
Широко распространившийся в крупных городских центрах буржуазный аферизм стремительно разрушал феодальные структуры и оказывал колоссальное воздействие на умы людей: «Министры и другие сановники, чиновники всех рангов бросились играть на бирже, — будут вспоминать десятки лет спустя в одном специализированном издании, — помещики стали продавать имения, домовладельцы — дома, купцы побросали торговлю, многие заводчики и фабриканты преобразовали свои учреждения в акционерные компании, вкладчики в правительственных банках начали выбирать оттуда свои вклады, — и все это бросилось в азартную игру на бирже».
В этом контексте немедленно вспоминается Штольц из «Обломова», участвовавший «в какой-то компании, отправляющей товары за границу» и изображенный Гончаровым «беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента — посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу — выбирают его. Между тем он ездит и в свет и читает: когда он успевает — бог весть»; или Лужин из «Преступления и наказания», психологически более правдоподобный, так же как и уже знакомый нам Нерадов или Калинович из «Тысячи душ» Писемского: «Надобно сказать, что комфорт в уме моего героя всегда имел огромное значение. И для кого же, впрочем, из солидных, благоразумных молодых людей нашего времени не имеет он этого значения? Автор дошел до твердого убеждения, что для нас, детей нынешнего века, слава, любовь, мировые идеи, бессмертие — ничто пред комфортом». Русские внуки Эжена Растиньяка, эти энергичные молодые люди не церемонились на развалинах старого режима — как в литературе, так и в реальности.
Вместо того чтобы просто разлагаться под натиском капиталовладельцев, старая феодально-бюрократическая система сразу начала с ними взаимодействовать. Например, уже в конце 1859 года графы Шувалов и Бобринский — представители придворной элиты и будущие столпы «аристократической партии» — занимаются весьма прибыльным делом: строительством многоквартирных жилых домов, причем в компании известных экономистов-либералов типа Александра Абазы (будущий министр финансов) и других предпринимателей не особенно знатного рода. В 1859 году происходит значительное увеличение числа министерских комиссий и подкомиссий, которые по официальной версии создаются с целью модернизации банковской системы, а в действительности не столько преобразуют ее, сколько начинают выполнять посреднические функции между традиционной придворной олигархией и новыми экономическими силами.
Ярким примером подобных махинаций можно считать основание Главного общества российских железных дорог (ГОЖД), которому принадлежало 60% всего инвестиционного капитала страны: в течение десятилетий оно было мощнейшей экономической организацией и ширмой для всевозможных злоупотреблений. К моменту ее образования среди членов ГОЖД числились влиятельные и опытные финансисты (барон Александр Штиглиц), московские купцы и южнорусские греки, сколотившие состояние на винных откупах (Василий Кокорев, Дмитрий Бенардаки), влиятельные придворные (Алексей Орлов, Николай Юсупов, Эдуард Баранов), члены императорской семьи и… сам Александр II, владелец 1200 акций. Это, кстати, и было главной причиной, по которой, несмотря на очевидное кризисное состояние, в 60-е годы система царской власти уцелела. Сразу после реформ административные и экономические интересы позволили обществу объединиться: всем был выгоден политический режим, который, учитывая его персоналистский архаизм и непрозрачность, тогдашние олигархи справедливо считали более податливым, нежели любой другой. «Мерзости всегда приходили к нам исподтишка, — замечал наблюдательный современник. — Так подошло к нам, ползучи на животе, пядень за пяденью и крепостное право; так подползет, пожалуй, и зависимость от земляного капитала».
Гуидо Карпи (1968) преподает русскую литературу в Пизанском университете (Universita di Pisa). Сотрудничает с журналами "Вопросы литературы" и "Philologica", автор статей и монографий о русском модернизме, творчестве Ф.М. Достоевского и влиянии социоэкономических факторов на поэтику классической русской литературы XIX века. Написал общую историю русской литературы от Петра Великого до Октябрьской революций (Roma: Carocci, 2010. 738 с., на итальянском языке), редактировал несколько антологий русской поэзии.
http://ttolk.ru/?p=10314
В среду, 4 апреля, в 19.00 в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоится презентация книги профессора Пизанского университета Гуидо Карпи “Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы”
В презентации примут участие:
Гуидо Карпи
Дмитрий Бак , проректор РГГУ по научной работе
Михаил Велижев , кандидат филологических наук
Михаил Макеев , доктор филологических наук
Борис Куприянов , директор магазина и издательства “Фаланстер”
Владислав Софронов , кандидат философских наук
Место проведения мероприятия – 273 аудитория. Приглашаются все желающие, у входа посетителей будут встречать и провожать, схему проезда см. тут .
Заседание Книжного клуба РГГУ проводится при поддержке книжной лавки “У кентавра”
|
Комментариев: |