|
Дорогой Николай Иванович! Начинаю верить в заранее предначертанные повороты судьбы. Вот же, казалось бы, какое могу иметь отношение к военно-морскому теоретику, дворянину Николаю Лаврентьевичу Кладо? Со своей среднестатистической биографией: родилась в Дорогобуже, то есть в стороне от морских просторов, училась в советских школе-институте и т.п. И вдруг… Ваше предложение: «Напишите о Кладо. О военном мыслителе Николае Лаврентьевиче и его сыне, критике, драматурге Николае Николаевиче. Это же такая интересная страница в истории нашего общества!»
Вы меня, «уходящую натуру», словно бы настигли и привлекли к ответственности. Словно бы нет у меня права исчезнуть, прежде чем не поведаю… И я так ещё поняла Ваше полуприказное предложение: мне следует рассказать об отце моего мужа и о нём самом в эпическом стиле.  Села к столу, взяла ручку. С лёгкостью ответила на вопрос, откуда такая фамилия «Кладо» с ударением на первом слоге. Греческие предки «виной». Последняя буква «с» в России оказалась лишней. Прадед Н.Н. Кладо, М. Кладо — кавалергард во времена Екатерины II. В аттестате о нём: «служил с лучшим противу прочих». Из той же энциклопедии: «Был высокого роста, сажень без двух вершков по телосложению и очень красив». Дед, Н. М. Кладо, служил на Черноморском флоте, оборонял Севастополь во время Крымской войны 1853–56 гг. Переведён был во Владивосток, где закладывалась военно-морская база. Был первым комендантом крепости. Потом окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Села к столу, взяла ручку. С лёгкостью ответила на вопрос, откуда такая фамилия «Кладо» с ударением на первом слоге. Греческие предки «виной». Последняя буква «с» в России оказалась лишней. Прадед Н.Н. Кладо, М. Кладо — кавалергард во времена Екатерины II. В аттестате о нём: «служил с лучшим противу прочих». Из той же энциклопедии: «Был высокого роста, сажень без двух вершков по телосложению и очень красив». Дед, Н. М. Кладо, служил на Черноморском флоте, оборонял Севастополь во время Крымской войны 1853–56 гг. Переведён был во Владивосток, где закладывалась военно-морская база. Был первым комендантом крепости. Потом окончил Николаевскую академию Генерального штаба.И вдруг «эпический стиль» вдребезги. Память выхлестнула тот мой беспомощный, «бытовой» вопль кромешного отчаяния: «Остановись! Не ходи! Сколько ж можно?! Ты же болен! Там же мороз!» В ответ: «Не надо кричать. Тем более плакать. Я обязан. Это мой долг». И никакое время, а прошло с той поры… 30 лет, не размыло, назову так, — момент, когда муж мой, Николай Николаевич Кладо, вернулся после очередного безнадёжного «хождения по мукам». Когда я увидела его худое лицо с закуржавленными бровями, ресницами, белёсыми краями шапки-ушанки. Надышал… Куда ходил? Чего добивался? И не добился. И почему его одинаково «усердно» «убивали» литначальники, партчиновники, ура-патриоты и представители «богоизбранного» племени? Середина восьмидесятых. Что же вынудило Н. Н. Кладо, весьма пожилого, больного человека и в мороз, и в зной, и в дождь ходить «по кабинетам»? Вот текст его письма к тогдашним «столоначальникам»: «Я с возмущением прочёл в №№ 8 и 9 за 1985 год журнала «Молодая гвардия» роман В. Пикуля «Крейсера». Особенно, конечно, возмутило меня то, как в этом романе показан мой отец — Николай Лаврентьевич КЛАДО, видный морской учёный, заслуженный профессор, назначенный сразу после революции на пост начальника Морской Академии и умерший в 1919 году. Его, известного учёного, основоположника морской стратегии и тактики, положившего немало сил на восстановление российского морского флота в советские годы, а до революции разжалованного и подвергавшегося арестам, — Пикуль зашельмовал, пытался унизить в глазах современного читателя, пренебрегая истиной, прибегая к самым грязным средствам, клевете. Всё написанное им — противоречие истории и документам, свидетельствам современников и советских деятелей. Этот роман и по своим художественным качествам — низкопробен, подобен бульварной литературе, искажает истинную историю горьких для нашего народа времён. … На протяжении романа, игнорируя факты, даже широко известные, В. Пикуль пытается во что бы то ни стало скомпрометировать Н. Л. Кладо в глазах современных читателей. Он не только предвзято изобразил участие отца в деятельности Тихоокеанского флота, но и сочинил издевательские сцены, никогда не бывшие в действительности. Особенно яростно Пикуль набросился на деятельность моего отца как учёного, заодно шельмуя и вообще науку, придумав борьбу «берега с морем» и т.д. На флоте в те годы, как и вообще при царизме, в разных отраслях было немало противников теории, науки — это было одной из причин поражения в русско-японской войне. Но Пикуль вместо обличения носителей невежества принял их сторону. … Кстати, все сцены, где так издевательски представлен мой отец — никакого значения для развития романа не имеют — это вставные сцены, которые легко изъять. Они вставлены Пикулем специально для того, чтобы обесчестить имя моего отца. … Прошу всех, к кому обращаюсь, проявить своё отношение к роману Пикуля, принять участие в общественном осуждении его клеветы. 15 ноября 1985 г. Н. Кладо.» В том-то и дело, что Н. Л. Кладо не умел и не хотел приспосабливаться к текущему моменту и его оракулам, чьи интересы по-живому резали общенациональные. До Великой Октябрьской революции он снискал уважение у русской прогрессивно мыслящей общественности, но нажил ожесточённых недоброжелателей из числа чинуш-приспособленцев, ведающих военно-морским департаментом. Они-то и обвинили его в антипатриотизме потому, что он посягнул в печати (псевдоним «Прибой») объяснить, в частности, неготовность России воевать с Японией. И не для обсуждения формы и цвета аксельбантов приходил на приём к царю Николаю II, а для того, чтобы сказать ему то, что омрачало его душу истинного страдальца за Родину. Вот его письмо к выдающемуся деятелю науки и культуры С. А. Венгерову, от 13 марта 1913 года (см. Военная энциклопедия, т. XII, изд. Сытина, 1913, с. 579–580): «1) Я стремился доказать русскому обществу огромное значение флота для нашего отечества — значение нисколько не меньшее, чем имеет армия, так как отсутствие флота обессиливает армию. 2) Я стремился и продолжаю стремиться и теперь доказать русскому флоту, что поставить себе девизом — беззаветно умереть за отечество, — это далеко не всё, что имеет право требовать народ от своей военной силы, для создания и содержания которой он несёт такие тяжкие жертвы. Надо уметь не только умирать, но непременно надо уметь побеждать. А для этого мало одной отваги — надо уметь вести войну. Я ратую за то, чтобы уменье ставилось наряду с отвагой, и борюсь против крепко укоренившейся в нашем флоте традиции, что всё в духе, и что уменье будто бы приходит само собой на службе. Уменье, с моей точки зрения, зиждется на науке, и если не существует уважения к военной науке, не будет уменья вести войну. Нас погубило и продолжает губить отсутствие военного образования, и мы ещё слишком малокультурны, чтобы сознавать это. Наша традиция — военное невежество, что нам не проходит даром. Из-за военного невежества у нас плохие корабли и пушки, потому что мы не умеем остановиться на хороших, не умеем воспитывать хороший (умелый) личный состав». К этому своему «крику» о помощи Н. Н. Кладо прилагал вот эти данные: «БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Том 12 стр. 767 Третье издание 1973 года
Русский воен.мор.теоретик и историк, ген.-майор по адмиралтейству (1912 г.), проф. Окончил Мор.училище (1881) и Николаевскую Мор.академию в 1886. В 1886 и 1892–95 преподавал воен.мор.историю и мор.тактику в Мор.уч-ще, 1889–92 служил на эскадре Тихого ок. С 1895 — преподаватель воен.-мор.иск-ва в Мор. академии. во время рус-япон. войны 1904–05 нач. отдела штаба Тихоокеанского флота. За публикацию критических статей («После ухода второй эскадры Тихого океана» 1905) в мае уволен в отставку. С 1910 проф. Мор. Академии по кафедре стратегии, участвовал в написании и редактировании «Военной энциклопедии» и «Истории русской армии и флота». С марта 1917 года по июль 1919 нач. Мор.академии. в своих трудах придерживался буржуазной концепции владения морем (господства на море).
«Следует уточнить, — писал Н. Н. Кладо, — в годы, когда выходило первое издание БСЭ, считалось, что нашей стране не нужен большой флот, важна только береговая охрана. Отчасти это было вызвано и тем, что не было средств для строительства больших кораблей. Отец всегда ратовал за большой русский, а потом советский флот. Не случайно троцкисты «рассыпали» последнюю книгу Н. Л. Кладо, не дав ей хода из типографии. Как же представил Пикуль в своём «историческом» романе Н. Л. Кладо? Так, что на помощь Николаю Николаевичу бросились военно-морские офицеры, не понаслышке знающие, чем дорог Отечеству «бунтарь» Николай Лаврентьевич и почему их так глубоко оскорбила грязная клеветническая дребедень, которую посмел выдать за истину нечистоплотный литератор. Их обширное послание было отправлено секретарям Союза писателей Г. Маркову, Ю. Верченко, редакциям журнала «Молодая гвардия», «Роман-газеты», в ЦК ВЛКСМ и… зав отделом пропаганды ЦК КПСС А. Н. Яковлеву. Многостраничный анализ ситуации содержал и такие аргументы: «В чём же, по нашему мнению, состоят основные идейно-политические и исторические ошибки, допущенные писателем в романе? Во-первых, неверная оценка причин и характера русско-японской войны, отрыв её от революции 1905 года, показ России в этой войне как единого, а не раздираемого антагонистическими противоречиями организма. Во-вторых, идентификация внешней политики царской России и Советского Союза («наш министр Витте» (см. № 8, с. 184)) и отождествление советского ВМФ с царским флотом («наши доблестные крейсера» (см. № 9, с. 169)). В-третьих, неправильная оценка некоторых реальных исторических лиц. Русско-японская война 1904–1905 гг. возникла в обстановке усилившейся борьбы империалистических держав за раздел полуфеодальных Китая и Кореи, носила захватнический, несправедливый, империалистический характер с обеих сторон. В листке ЦК РСДРП «К русскому пролетариату», написанном В. И. Лениным через неделю после начала русско-японской войны, даются чёткие классовые оценки одной из первых войн эпохи империализма. В. И. Ленин пишет: «Царское правительство настолько уже зарвалось в своей политике военных приключений и грабежа соседних стран, что идти назад оно оказалось уже не в силах» (В. И. Ленин. ПСС т. 8, с. 173). В классической работе «Падение Порт-Артура» В. И. Ленин писал: «Не русский народ, а русское самодержавие начало эту колониальную войну, превратившуюся в войну старого и нового буржуазного мира. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению» (В. И. Ленин. ПСС, т. 9, с. 158). Был также «внутренний враг», толкавший царизм к войне — назревшая революция. Министр внутренних дел Плеве говорил военному министру генералу Куропаткину: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война» (С. Ю. Витте. Воспоминания. Том 2. М., 1960, с. 291). В. Пикуль же стремится показать нам царскую Россию как невинную жертву войны. «… Россия потому и шла на уступки, что войны с Японией никак не хотела» (См. № 8, с. 65). «… русские воевать с Японией не собираются…» (См. № 8, с. 53). О революционном движении на флоте и в армии в романе нельзя найти и строчки, хотя в это время прогремели на весь мир крупные революционные выступления на флоте: восстание на броненосце «Потёмкин» и крейсере «Очаков» на Черноморском флоте в 1905 г., в Кронштадте в 1905 г. и в 1906 г., в Свеаборге в 1906 г. (История КПСС. Изд. 7-е, доп. М.: Политиздат, 1985, с. 87). Крупные революционные выступления имели место и во Владивостоке (в 1905, 1906 и 1907 гг.). Именно об этом писал А. М, Горький: «Ещё в 1905 году Николай II, выслушав доклад генерал-лейтенанта Казбека о том, как ему удалось, не прибегая к оружию, вернуть в казармы взбунтовавшихся солдат Владивостокского гарнизона, мягким тоном хорошо воспитанного человека вместо ожидаемой похвалы изрёк: «В народ всегда надо стрелять, генерал!» (М. Горький. Собр.соч. в тридцати томах, т. 23, М., 1953, с. 400–401). В связи с происходящим ростом революционных выступлений, отряд Владивостокских крейсеров, о котором рассказывается в романе, на длительное время был отправлен в море, а после жестокого подавления восстания солдат и матросов во Владивостоке команда транспорта «Лена» как «неблагонадёжная» была выслана из Владивостока. (См. Захаров С. Е. и др. «Краснознамённый Тихоокеанский флот». М.: Воениздат, 1981, с. 62–63). Писатель вводит читателя в заблуждение относительно хода русско-японской войны и возможностей воюющих сторон. К июню 1904 г. Япония ещё не ощущала дефицит людских ресурсов, а самурайский фанатизм её солдат на фронте был в разгаре. Ни на какое братание в этот период не было и намёка. Всё это произошло значительно позже в 1905 г. после Мукденского сражения и начала революции 1905 г. в России. Образы некоторых царских адмиралов в романе показаны неверно и расходятся с ленинскими оценками. Создаётся впечатление, будто это подлинные герои русско-японской войны, а не те «бездарности» и «ничтожества», о которых писал В. И. Ленин: «Падение Порт-Артура подводит один из величайших исторических итогов тем преступлениям царизма, которые начали обнаруживаться с самого начала войны и которые будут обнаруживаться теперь ещё шире, ещё более неудержимо. «После нас хоть потоп!» — рассуждал каждый маленький и большой Алексеев, не думая о том, не веря в то, что потоп действительно наступит. Генералы и полководцы оказались бездарностями и ничтожествами… Бюрократия гражданская и военная оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как во времена крепостного права» (В. И. Ленин. ПСС. Т. 9, с. 155). Писатель пытается обелить адмирала Рожественского, цитируя его «страшные слова»: «Русская публика, возбуждённая газетными инсинуациями, слепо уверовала в мой успех. Но я-то отдаю себе отчёт в том, что уготовила судьба на путях наших странствий. Не следовало бы вообще начинать это безнадёжное дело» (с. 125, № 9). Указанные «страшные слова» Рожественского взяты писателем из белоэмигрантского издания 1933 г. Однако писателю должны быть известны русские и советские источники, из которых отчётливо видно, что Рожественский накануне выхода 2-й Тихоокеанской эскадры решительно выступал за посылку кораблей на Дальний Восток (См.: История русско-японской войны 1904–1905 гг. — М.: Наука, 1977, с. 325; Русско-японская война 1904–1905 гг. Кн. 6. Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Работа исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Морском Генеральном Штабе. Петроград, 1917, с. 11–15). В. Пикуль оправдывает и прямого виновника гибели и повреждения кораблей на внешнем Порт-Артурском рейде адмирала Старка, сваливая всю вину только на адмирала Алексеева. В то же время в романе незаслуженно принижается роль С. О. Макарова как флотоводца широкого мышления, понимавшего важность и необходимость объединения усилий армии и флота (См. с. 81, № 8). Самыми чёрными красками, наградив всевозможными отрицательными чертами («дешёвый демагог» (№ 8, с. 115), «величавый сотрудник черносотенной газеты «Новое время» (№ 8, с. 108–109), «дерьмо», «скользкий» (№ 8, с. 178) писатель изобразил конкретное историческое лицо — первого начальника советской Военно-морской академии профессора Николая Лаврентьевича Кладо (1862–10.7.1919 г.). Извращая историческую действительность, писатель пишет, что «русские моряки дружно ненавидели Николая Лаврентьевича, а профессор расплачивался с ними жестокой критикой» (См. с. 115, № 8). Неоднократно В. Пикуль представляет Н. Кладо трусом, вызывая к нему отвращение (См. с. 178, № 8, с. 166 и 169 № 9).
Известен высокий авторитет Кладо среди моряков. Когда в мае 1917 г. тайным голосованием избирали нового начальника Морской академии, то моряки единогласно избрали на этот пост Н. Л. Кладо (См.: Очерки истории Военно-морской орденов Ленина и Ушакова академии. Л., 1970, с. 43). … Статьи Н. Кладо произвели сильное впечатление на эскадре Рожественского. По поводу их вот что писал в письмах своему отцу младший минный офицер броненосца «Князь Суворов» лейтенант Вырубов, погибший в Цусимском сражении: «Каков наш Кладо? Давно бы пора так проработать наше министерство: подумайте, ведь в статье Кладо нет и сотой доли тех мерзостей и того непроходимого идиотства, которое делало и продолжает делать это милое учреждение, так основательно погубившее несчастный флот» (А. С. Новиков-Прибой. Цусима. М., 1939, с. 155). … В августе 1904 г. Н. Л. Кладо был командирован в Петербург для участия в выработке планов перехода 2-й Тихоокеанской эскадры, а также для доклада царю взглядов главнокомандующего адмирала Алексеева и командующего флотом на состав и назначение 2-й Тихоокеанской эскадры и на положение дел на морском театре войны. Выражаясь современным языком, он был командирован в штаб Рожественского для доклада обстановки, организации взаимодействия и обмена боевым опытом, и вышел вместе с эскадрой Рожественского. В ночь на 9 октября в районе Доггербанки в Северном море, по ошибке, английские рыболовные суда были приняты за миноносцы и обстреляны русскими кораблями (Гулльский инцидент). Для урегулирования этого инцидента капитан 2 ранга Н. Кладо был командирован вице-адмиралом Рожественским в Париж для работы в составе международной следственной комиссии и 18 октября 1904 г. в испанском порту Виго покинул 2-ю Тихоокеанскую эскадру. И убытие Н. Кладо из Владивостока в Петербург, и командировку в Париж В. Пикуль изображает в романе как трусливое бегство последнего (См. № 9, с. 162 и 169). С какой целью? В очередной раз унизить Н. Кладо. … Участник Цусимского сражения советский писатель А. С. Новиков-Прибой в романе «Цусима» писал, что газеты со статьями Н. Кладо читали на эскадре все, некоторые переписывали себе статьи в тетради. «Кладо считают чуть ли не революционером. Он не побоялся сказать правду и за это был арестован» (См. там же, с. 156). Критика Морского министерства в этих статьях дорого обошлась Н. Л. Кладо: для начала он бы посажен под арест на 15 суток, а затем по докладу управляющего Морским министерством должен был быть предан суду. Николай II на указанном докладе 2 мая 1905 г. наложил резолюцию: «Исключить из службы без предания суду» (ЦГА ВМФ, ф. 433, оп. 1, д. 230, л. 20). И только в сентябре 1906 г. он был снова определён на службу и назначен штатным преподавателем Морской Академии. … Член ЦК КПСС Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков отмечает, что Россия объективно оказалась первой страной, в которой раньше, чем на Западе, была осознана необходимость единства военной стратегии, и огромная заслуга в этом принадлежала прежде всего профессору русской морской академии Н. Кладо. (См.: Горшков С. Г. Морская мощь государства. М.: Воениздат, 1979, с. 313). Известный советский учёный профессор контр-адмирал Н. Б. Павлович относил Н. Л. Кладо к крупнейшим теоретикам своего времени (См.: Павлович Н. Б. Развитие тактики Военно-Морского Флота. Ч. 1, М.: Воениздат, 1979, с. 277)». Это суровое мнение о крайнем субъективизме беллетристического творения В. Пикуля «Крейсера» подписали: Мрыкин О. А., член КПСС с 1953 г., начальник кафедры истории военно-морского искусства Военно-Морской академии, капитан 1 ранга, доктор военных наук, профессор; Пензин К. В., член КПСС с 1940 г., профессор Военно-Морской академии, капитан I ранга в/о, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор военно-морских наук, профессор; Залесский Н.А., член КПСС с 1940 г., старший научный сотрудник Военно-Морской академии, капитан I ранга в/о, кандидат технических наук; Плотников О. М., член КПСС с 1948 г., начальник музея Военно-Морской академии, капитан I ранга в/з; Замчалов А. Н., член КПСС с 1951 г., старший преподаватель истории военно-морского искусства Военно-Морской академии, капитан I ранга, кандидат военно-морских наук, доцент; Гаккель А. М., член КПСС с 1956 г., старший преподаватель истории военно-морского искусства Военно-Морской академии, капитан I ранга, кандидат военно-морских наук, доцент; Волощенко Э. В., член КПСС с 1973 г., преподаватель истории военно-морского искусства Военно-Морской академии, капитан 2 ранга; Доценко В. Д., член КПСС с 1975 г., старший преподаватель истории военно-морского искусства Военно-Морской академии, капитан 2 ранга, кандидат исторических наук. И что?! Вот образчики ответов на эти и другие архиразоблачительные анализы «историзма» В. Пикуля. От Г.С. Гоца (Госкомиздат): «По поручению ЦК КПСС Ваше письмо рассмотрено… В ходе подготовки рукописи редакцией внесены возможные поправки и сокращения…» С «минимизированной», но клеветой на Н. Л. Кладо. Образчиком виртуозного лицемерия был ответ зам.редактора «Литературной газеты» Б. Кривицкого: «И по получении Вашего письма редакция не намерена откликаться на роман В. Пикуля «Крейсера». Это историко-беллетристическая вещь не столь уж примечательна в нынешней литературной жизни. Ваше письмо не изменило нашего мнения. Если Н. Л. Кладо изображён в искажённом виде, это, конечно, требует соответствующей реакции. Но необходимую «поправку», думается, целесообразнее бы сделать на страницах специального, освещающего проблемы армии и флота, может быть, военно-исторического издания, а не в литературной газете, являющейся, к тому же, по своему тиражу массовым изданием». А вот как «принципиальничал» первый зам.редактора газеты Ю. П. Изюмов. Из письма к нему Н. Н. Кладо: «При личной встрече Вы меня обнадёжили, сказав, что выясните — не печатают ли другие газеты ответ на критическое послание военно-морских историков о романе «Крейсера» — ибо «нет необходимости» бить во все колокола. И если нет, — то «Лит. газета» выступит с критикой этого романа Пикуля. И Вы сами позвоните мне через месяц. Прошло два — не позвонили». Ответ Ю. Изюмова: «Ваше требование, чтобы именно «Литературная газета» выступила против искажения личности Н. Л. Кладо в романе В. Пикуля «Крейсера», лишено убедительных оснований…» Очень, очень изворотлив умок того, кто приставлен «извращать и не пущать», какому бы лагерю он ни принадлежал. И Н. Н. Кладо и я всегда уважали журнал «Молодая гвардия» за его непреклонное служение советскому, народному взгляду на события. Однако из песни слова не выкинуть. Вот какую отписку отправил В. С. Новиков, зав.отделом прозы журнала во Владивосток преподавателю Тихоокеанского Высшего военно-морского училища Д. Н. Эндакову: «По поводу ваших претензий, высказанных в письме в адрес романа В. Пикуля «Крейсера», сообщаем, что в процессе подготовки к публикации роман консультировался специалистами института Военной истории, которые отметили предельную точность трактовки писателем исторических событий и образов действующих лиц. В связи с Вашим письмом мы провели дополнительную проверку исторических источников, которые раскрывают личность Н. Л. Кладо, сущность и значение его трудов и ещё раз убедились в том, что писатель был прав». «По поводу…» Но нет никаких ссылок, кто конкретно, какие «специалисты» оказались куда профессиональнее признанного знатока истории русского флота и не оробели клевету на Н. Л. Кладо подтвердить как истину в последней инстанции. Отписался в таком же духе и ещё один большой литчиновник. Но имя его называть из милосердия не стану — еле ходит, и свечка колеблется в его слабой руке. Бог ему судья! Отмечу лишь особенность тогдашнего нашего с Н.Н. Кладо существования. А именно — злобная травля и его и меня в отместку за наши статьи против еврейско-мещанского засилья в литературе и кино. Хлебнули от этих элитарных «богоизбранцев» по полной. Вплоть до срочного вызова меня в милицию, как… убийцы. Вплоть до того, что одного моего ребёнка «шухманы-горбачевичи-липкины» единственного не приняли в комсомол за … «критику Энгельса». За рассуждения, мол, если человек произошёл от обезьяны, когда взял в руки палку, то почему обезьяны в зоопарке берут в лапы по две палки, а человеком не становятся? Смешно? Об этом я рассказала в книге «Новые русские (Звериный оскал капитализма)» (Алгорит, 2005). Н. Н. Кладо тогда лежал в больнице… К нему «вернулся» туберкулёз, которым переболел в детстве… Но едва вышел на волю — «подарок» от В. Пикуля и его объединённых, хоть, вроде, и неоднородных, охранителей. Почему всё-таки В. Пикуль взялся охаивать Н. Л. Кладо? Чем он ему успел не угодить, если умер в 1919 году? Ответ весьма тривиален. В 1965 году в «Литературной газете» под заголовком «Похождения князя Мышецкого» критик Н. Н. Кладо «посмел» не похвалить начинающего «разоблачителя царской империи», а остановить его неправедное, непрофессиональное стремление представить Россию как сплошную помойку, где копошатся сплошь нравственные уроды. С присущим критику чувством иронии он сообщает читателю: «Давно известно, что до революции в России жилось плохо. Услышав об этом от лектора, герой одного из юмористических рассказов сказал: «Тьфу на них совсем», и действительно плюнул. Прозаик Валентин Пикуль, примерно так же относящийся к проклятому прошлому, написал на 410 страницах роман «На задворках великой империи», а Лениздат выпустил книгу в 115 тысяч экземпляров. Тут самое время предупредить, как бы чего не вышло. Вдруг кто-нибудь подумает, что мы защищаем выведенных в романе князей, жандармов, прелюбодействующих святых отцов и прочих. Нет. Мы действительно жалеем и защищаем… здравствующих современников, тех, кто отдал свои трудовые деньги за это сочинение и потерял на него своё время. В романе: «… И чтобы расплатиться с Иконниковым, он предложил ему не что иное как… княжну Додо. — Поверь, братец, — расхваливал Ениколопов женщину, как товарную наличность, — ей-ей, бабец того стоит. К тому же княжна, в Бархатную книгу записана. Сумасшедшая, правда, но зато… зверь, а не женщина! Конкордию перешибёт. У меня уже сил на неё не стало — хоть дворника зови на помощь. Только мигни — она сразу к тебе перепрыгнет». Но бог с ней, с Конкордией и княжной Додо. Пусть кого хотят, того и соблазняют. Не будем придираться и к тому, как автор описал «высшее общество» — дворянство, духовенство, тем более, что в романе даётся им краткая, но «исчерпывающая» характеристика: «барахло собачье». То есть, Н. Н. Кладо отметил упоение автора, с каким тот запросто всю, как говорится, Россию, где, само собой, кроме ничтожеств, подонков жили и творили благородные люди, — изобразил издевательски, с массой пошлых, «пикантных» подробностей. Как и должно быть в бульварном творении, рассчитанном на неприхотливый вкус. Критик отметил и «своеобразие» авторского стиля: «…все персонажи книги — и князья, и революционеры, и мужики, и генеральши — говорят почти одинаково. Порой даже кажется, что чуть ли не за всех говорит один и тот же начальник тюрьмы, который в присутствии князя изъясняется так: «Передавлю всех!», «А ты за каким хреном приволоклась? Залечи сначала свой триппер… Знаю я вас, таких паскудов!» и т.п. Почему эта статья подписана ещё одной фамилией «с регалиями» — «Н. Левченко, член КПСС с 1917 года»? Ответ очевиден: Н. Н. Кладо — дворянин, что никогда не скрывал в своих анкетах. И ему нужен был единомышленник из «другого лагеря». И ничего поразительного в этой самозащите нет. После смерти отца Н. Л. Кладо на его глазах арестовали в апреле 1924 года мать Анну Николаевну, облыжно обвинив в антисоветской пропаганде. Только за то, что по давней традиции к ней приходили на чай бывшие царские военные моряки. Но уже в мае признали невиновной. Однако приговорили к ссылке на Урал. Она, врач, и проработала там, в селе, до осени. А трое её детей остались с сестрой мужа. Вернулась домой с обострённым туберкулёзом. Старший сын Николай оскорбился за мать, когда тётка заявила, что брак её брата и Анны — мезальянс, её дворянское происхождение куда как ниже, чем у них. Не тогда ли у него, будущего драматурга, критика, впервые вспыхнуло чувство неистребимого презрения к обывательскому взгляду на жизнь? И если бы не ранняя страсть к литературе, кинематографу… Если бы не всепрощающая любовь мамы… Это был третий брак Н. Л. Кладо. С первой женой, А. К. Буанэ они развелись. Но с дочерью их Татьяной Николай поддерживал всю жизнь дружеские, тёплые отношения. Эта его старшая сестра писала и печатала стихи, переводила французских классиков. И его сердце прожгла боль от чудовищной несправедливости, когда «комиссия по разгрузке Ленинграда» в лице некоего Пруса признала Татьяну и мать её А. К. Буанэ-Яворскую не достойными жить в своём родном городе. И были они отправлены в том, 1934 году, в ссылку. В 1939 году в Саратове Татьяна похоронила мать, а вернуться ей в Ленинград было разрешено только в 1947-м. И ещё: когда Н. Н. Кладо учился (1927–1929 годы) в институте истории искусств, на него нашёлся доносчик: мол, данный студент — сын белогвардейского офицера. И пришлось оклеветанному идти в архивы за нужными справками. Но — предъявив их и «отчислившись», строптивый, гордый юноша бросил всё и уехал в Ташкент. Там, на киностудии, снимал как режиссёр сначала кинохронику, потом художественные фильмы. И там же едва не сгинул, проявив свой взрывной, свободолюбивый характер. Это когда П. Дыбенко, командующий, не шутите, Среднеазиатским военным округом, попробовал опрометчиво, в грубоватой форме покритиковать работы собравшихся, в основном молодых кинематографистов. Н. Н. Кладо крикнул с места: — Так может рассуждать боцман, а не… Зловещая тишина, по рассказам очевидцев, нависла над залом. — Кто такой?! — грозно пробасил легендарный и внешне массивный архиначальник «над Азией». Высокий, худощавый юноша встал в полный рост: — Это я. — Фамилия? — Кладо. Заминка. Остывшим голосом: — Имеете отношение к Николаю Лаврентьевичу Кладо? — Сын. П. Дыбенко, надо отдать ему должное, не только не «казнил» строптивца, но помянул «царского генерала» добрым, уважительным словом. По залу пролетел вздох облегчения: «Пронесло!» Однако в скором времени по доносу юный Кладо был заодно с двумя «киношниками» обвинён в несуществующих грехах. У них отняли ремни от брюк, и очутились они в подвале в ожидании судного дня. И вот тут произошло красивое, но неоднозначное событие. К товарищам по несчастью приходили жёны с передачками. Н. Кладо был одинок. И вдруг ему объявляют: «К вам ваша жена». Он вышел в комнатёнку для свиданий. Там ждала его Люся Джалилова, красавица, одна из первых актрис узбекского кинематографа, дочь очень известного советского деятеля, окончившего в своё время Сорбонну, и — русской дворянки. «Я ею любовался, как и все, но это не было любовью. Но, Лиля, есть такие безоглядные, самоотверженные поступки, что выше, дороже любви. Молоденькая Люся, получалось, для сплетников — аморальное явление, достойное осуждения. Я счёл своим долгом узаконить наши отношения, как только окажусь на свободе». Она сидела в зале суда и, сияя тёмными очами, восхищённо слушала многочасовую речь своего любимого. Суд всех оклеветанных оправдал. И прожила эта маленькая, увы, бездетная семья восемь лет, до 1939 года. И: «Я, Лиля, по глупости сама погубила своё счастье. Мы сидели с Колей в зале и слушали самодеятельный хор. Я и говорю: «Коля, посмотри, какая симпатичная юная таджичка, вторая справа». Он посмотрел… И всё». Ну да, пылко, страстно влюбился. В абсолютно безграмотную дочь рыночного канатоходца, к тому же, как оказалось, беременную. «Коля, — убеждала меня Тамара (жена С. А. Герасимова. — Л. Б.), не делай глупости. Разница цивилизаций неодолимая». Но…» И почти тридцать лет вместе. Трое детей. И вечные нехватки. Ибо, увы, увы, Н. Н. Кладо — не «заработчик». Он, в каком-то смысле, «в облаках», в кипучей буче отстаивания высоких и прекрасных идей. Пристраиваться, подстраиваться не способен органически. И где бы ни появлялся — сам по себе, старомодно учтивый, аристократически приветливый и, как писали даже мужчины, — «сокрушительно красивый».
Надо ли объяснять, почему меня, на тот момент журналистку, начинающую писательницу, в обиходе «скандалистку» поразил и сразил «скандалист» Н. Н. Кладо? С невиданной дерзостью посягнувший, в частности, на «святое» — соцреализм… В том виде, в каком его «приручили» бюрократы-опекуны и от власти, и от литначальства, оторвав от сложностей подлинно народной жизни. Злыдни-сплетники потом и все двадцать три года, что мы прожили вместе, до смерти Н. Н., не уставали приписывать то мне, то ему «расчёт». Иногда бесцеремонно интересуясь: «Всё ещё вместе?! Надо же…» И, надо же, до сих пор полоумная старуха распространяет чушь, будто я «увела» Н. Н. Кладо от оперной певицы из Душанбе, которая за свои выступления получала мешки денег и тратила на Н. Н. И моя родня долго не мирилась с нашим «неравным браком», считая меня хитро обольщённой Н. Н. Хотя он ведь довольно странно, себе во вред, «обольщал» меня: «Беден…болезни… Жить будем в нищете… Ну не в полной, но… Хлебнёте клеветы. У меня семьи давно нет. Одна видимость. Дети выросли, получили образование. У всех своя отдельная жизнь. Жена хочет иметь свою квартиру… меняемся». Впрочем, «ломать» наш с Н. Н. наметившийся «клан» пробовал и очень сердечный дядька, секретарь Сахалинского обкома партии «по идеологии». Мол, Лиля, зачем вам этот пожилой «левак», здесь вы пользуетесь уважением и т.п. Более того, мне вручили ордер на двухкомнатную в новом доме, чтоб я ушла из той, где бедовала с мужем и после развода. Этот же вопрос «зачем?» задал мне и приятель моего мужа. Они дружили ещё с МГИМО и потом — за рубежом, в разведке. Вдруг прилетел из Москвы и: «Я понимаю, Сашка пьёт по-чёрному, жить с ним давно нельзя. Но зачем тебе идти к чужому человеку, если я давно тебя люблю?» Вдобавок мой пятилетний сынишка был очарован военной формой А. К., пленён изобилием привезённых невиданных игрушек… Но… Поневоле уверуешь в мистику и предначертания «сверху». Мне так хотелось иметь ребёнка от Н. Н., что, забеременев, три месяца не ходила к врачам. А когда пришла, врач Серебрякова накричала на меня, мол, второго рожать собралась, а даже анализа крови на резус-фактор не сделала. А если он отрицательный, а у мужа положительный, ты ж можешь не родить! Мол, это редкость, чтоб два отрицательных. Но оказалось, что родить нам Бог велел — и у Н. Н. Кладо анализ показал: его резус — родня моему. И «обогатились» мы девочкой… И посыпались нам поздравления, можно сказать, со всех уголков Советского Союза, от представителей разных профессий и национальностей. Разумеется, исключая этих самых «леваков, то есть «общечеловеков» из клана антисоветской, антинародной диссидентуры. Вот то-то и оно, что «кривицкие-пикули» среди друзей и хороших знакомых Н. Н. Кладо, — не значились. С ним многие-многие годы поддерживали добрые, уважительные отношения Л. Соболев, «братья Васильевы», Г. Козинцев, А. Абашидзе,. Довженко, Ю. Солнцева, Э. Тиссэ, Ю. Олеша, М. Каюмов, А. Макаёнок, Л. Шепитько… Да разве всех перечислишь! От С. Герасимова и Т. Макаровой неизменно приходили поздравления в связи с круглыми датами. Одно из них: «Дорогой соратник и друг, желаем вам ещё многие лета оставаться молодым, не теряющим юмора, обнимаем». Иные из них при встречах восклицали: «Приветствую весёлого самоубийцу!» То есть выламывающегося из рядов шибко озабоченных доходами и потому на подвиг говорить истину в глаза начальствующим не способных. Так ведь и его отец Н. Л. Кладо никаких богатств не приобрёл. И оставил детям пример здравого аскетизма в быту. И Н. Н. Кладо вполне хватало «свежевымытой сорочки», как выразился поэт. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он со всем юношеским пылом брался бескорыстно помогать самым нерешительным, начинающим. К нам в квартиру часто приходили молодые драматурги, прозаики, сценаристы. Это он, в самом начале тридцатых, разглядел в босоногом узбекском юноше скрытый до срока незаурядный талант. И повёз его в Ленинград, к своей тогда ещё живой маме, чтоб показать ему прекрасный город, «расширить горизонт»… И превратился в итоге Малик Каюмов в первоклассного оператора, легендарно бесстрашно отработавшего с камерой на полях сражений Великой Отечественной войны, лауреата многих премий. Это он, ещё в 1965 году, с радостным нетерпением попросил меня: «Прочитайте! Какой талантливый драматург!» И там же, на этом Читинском семинаре молодых писателей Дальнего Востока и Восточной Сибири, «бросился» оборонять своего «протеже» от примитивных наветов упорных ценителей «общепринятой» заскорузлости. И так несговорчиво обрисовал сложившуюся ситуацию вокруг А. Вампилова в местной газете: «К сожалению, работы, представленные на наш семинар, огорчают не только малочисленностью, но и тем, что, за редким исключением, не используют всю мощь драматургии. Пожалуй, владеет ею лишь А. Вампилов из Иркутска, автор двух комедий «Прощание в июне» и «Нравоучение с гитарой». Радует в них не только лаконичность диалога, умение создать остроумные комедийные положения и чётко, выпукло обрисовать характеры, большей частью впервые открытые для сцены драматургом… Думаю, что пьесы А. Вампилова давно заслужили и зрителя, и читателя. И не могут не удивить робость и равнодушие, перестраховка Иркутского театра, альманаха «Ангара», которые уже не первый год проходят мимо произведений талантливого молодого драматурга, столь нужных зрителю». Дважды «невезучий» сибиряк приезжал в Москву на семинар к Н. Н. Кладо. И однажды спросил, мол, что же мне делать дальше, если меня и там, и там сходу отвергают, и никакой надежды нет, что напечатают, или поставят на сцене. Мол, приспосабливаться не хочу и не могу, но… сколько ж можно только надеяться и ждать, ждать… Н. Н. Кладо ответил: «Важно сначала написать, как душа велит, без оглядки на редакторов и цензоров. Если же не написать, то уж точно никогда не напечатают и не поставят. Не предавайте себя, свой жизненный опыт». В отличие от некоторых творцов «рабоче-крестьянского» происхождения, которых поставила на ноги советская власть, а они её «перестроечно» принялись осмеивать и угаживать, как и сонм «богоизбранных» радзинских-радзиховских, — дворянин Н. Н. Кладо остался до конца верен идее социальной справедливости. И благороднейшим заветам своего отца. Вот ведь какой эпиграф использовал Н. Л. Кладо к исследованию «Введение в курс истории военно-морского искусства», 1910 г.: «На вопрос что делать, я ответил себе — не бояться истины, куда бы она ни привела. Л. Н. Толстой». Одним из первых Н. Н. Кладо откликнулся и на злобные нападки всё тех же «общечеловеков» на новый роман В. Белова «Всё впереди». «Кроткие борцы за…» только шептались о том, о чём он говорил во всеуслышание. А с каким боем прорывался в печать, ибо и там, и тут правили бал либо «борцы с русским антисемитизмом», либо приспособленцы из тех русичей, что и вашим и нашим, лишь бы «в кресле» усидеть. Вот, кстати, почему столь нагло русофобствующая рать взялась травить Н. Н. Кладо за то, что тот осмелился признать фигуру Бриша, главного героя романа, — отменно убедительной, зловеще символической, «знаком» многих бед, надвигающихся на Россию. «Да, в художественном отношении роман В. Белова несовершенен, — признавал Н. Н. Кладо. — Но образ архиприспособленца Бриша, — серьёзная удача писателя». Недаром писучие «бриши» — ароновы, рубашкины и т.п. долго, мстительно мусолили имя критика на страницах «своих» печатных органов, «уличая» его в примитивном антисемитизме. А ныне что? Как великолепно расцвели остапыбендеры, бриши, абрамовичи, вексельберги, миллеры, грефы, чубайсы, обустроив под себя «свободный рынок» «на задворках» воистину «Великой Советской Империи». И эта архиподлая, унизительная для всех трудовых народов России данность — убедительнейшее свидетельство, помимо всего прочего, — насколько боеспособны сбившиеся в кодлу деляги по сравнению с самыми большими праведниками, но существующими в розницу. Но как бы и что бы, а народ знает: как не извращай, не гнобь правду, а она рано или поздно, но кривду с дороги сметёт. И сегодня уже во всей полноте вернулось признание за Н. Л. Кладо его выдающихся заслуг как военного мыслителя Отечества. Чьи труды ничуть не утратили своей акутальности и ныне изучаются в военно-морских заведениях. В том числе его книга «Современная морская война», изданная в 1901 году, где он втолковывает всяким прежним и нынешним недоумкам-«толерантникам» «буржуазную теорию» господства на море: «Стремление к овладению морем, как главная цель войны на море и сильный наступательный флот, составленный из эскадренных броненосцев с придачей к нему крейсеров, главным образом броненосных и эскадренных миноносцев, как лучшее средство для достижения этой цели — вот чему учит нас история морских войн, вот каких взглядов практически держатся все державы». … В конце девяностых я повстречала истинного праведника, профессора И. С. Даниленко. Он считал необходимым вернуть России несправедливо отуманенные равнодушием, униженные домыслами невежд-конъюнктурщиков имена крупнейших военных теоретиков и пламенных патриотов Отечества, издав многотомную «Антологию отечественной военной мысли». И первым томом, появившимся в 1997 году, были «Этюды по стратегии» Н. Л. Кладо («Клуб реалисты»). В 2005 году я предложила газете «Патриот» отрывок из размышлений Н. Л. Кладо. С некоторой неуверенностью: вдруг «напорюсь» на «толерантное» отношение к пикулевским измышлениям. Но и редактор, генерал М. Земсков, и заместитель его полковник Н. Литвинов без задержки под рубрикой «Имена в истории Отечества» поместили на развороте и статью о Н. Л. Кладо профессора И. Даниленко «Н. Л. Кладо — классик военно-морской мысли в России», и размышления самого военного теоретика. То есть средь нынешнего всяческого хаоса, межеумия, образованщины сохранны знатоки подлинной ценности Личности и готовы бескомпромиссно оборонять её от распоясавшихся клеветников. Ни в каких добавочных пояснениях не нуждаются предлагаемые и читателям «РП» рассуждения Н. Л. Кладо — «Светоч свободы народов».
Думаю, не надо объяснять, за что и против чего боролся литературный и кинокритик Н. Н. Кладо (1909–1990 гг.) Среди сотен его статей я выбрала вот эту (журнал «Дружба народов», 1956 г.) — «Национальное в конкретном». За её опять же непреходящую актуальность. Статья обширная, пришлось резко сократить.
P.S. Нынче наимоднейшим словом стало «патриотизм». Им козыряют уже и единые как бы россы, и вся «королевская рать», сформированная на основе либерал-обирального курса «иди туда — не знамо куда». Но конкретика подла и коварна. Едва дорвавшись до власти, ельциноидные авантюристы бросились захватывать помещения редакций, типографий, издательств, как самые наглые рейдеры. Их тотчас подсоединили к желудочно-кишечному тракту абрамовичей, вексельбергов, потаниных и т.п., через который потекла сладкая, вожделённая нефть, перерабатываемая в баксы. И орава СМИ-холуёв принялась бесперебойно воспевать этот самый «рынок», абсолютно освобождённый от совести. Вот почему исчезла газета «Патриот» в бумажном варианте. И осталась только память о том, что она верно служила Отечеству с 1927 года, что перед «убийством» «борцами за свободу слова» её тираж был немногим меньше миллиона. В том же положении, на правах нелюбимого, неприрученного пасынка существует и «Российский писатель». Так ведь и правильно! Они ж позволяют себе иметь собственное мнение! Они ж за бесплатно пишут-работают! И какие ж они патриоты, если никак не осилят любить кремлёвско-думских неусыпных заботчиков об народе! |
||||
Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"
|
|
| Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"
|

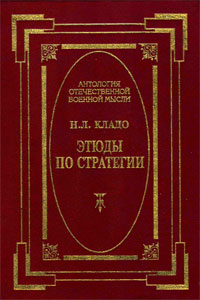
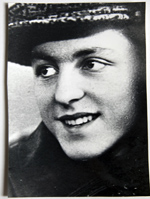

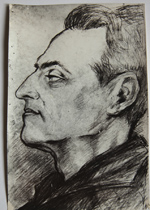
 Очень точную характеристику дал ему киновед Валерий Фомин: «Мне посчастливилось в своё время увидеть Николая Николаевича К. в его коронном жанре публичного скандалитэ. К тому времени за ним уже столь прочно закрепилась соответствующая слава, что на трибуну его всеми правдами и неправдами просто не выпускали. Каждый раз он вынужден был просто прорываться (…). Начальству при одном его появлении делалось дурно, а простой наш кинематографический народ, возможно, не всегда разделяя его мысли и оценки, был всё равно ему страшно благодарен за то, что во время его огненных спичей в зале просыпались даже дохлые мухи. В другие времена и при другом начальстве талантам, знаниям и редким качествам Николая Николаевича нашлось бы более подходящее применение, а может быть, даже цены бы им не было».
Очень точную характеристику дал ему киновед Валерий Фомин: «Мне посчастливилось в своё время увидеть Николая Николаевича К. в его коронном жанре публичного скандалитэ. К тому времени за ним уже столь прочно закрепилась соответствующая слава, что на трибуну его всеми правдами и неправдами просто не выпускали. Каждый раз он вынужден был просто прорываться (…). Начальству при одном его появлении делалось дурно, а простой наш кинематографический народ, возможно, не всегда разделяя его мысли и оценки, был всё равно ему страшно благодарен за то, что во время его огненных спичей в зале просыпались даже дохлые мухи. В другие времена и при другом начальстве талантам, знаниям и редким качествам Николая Николаевича нашлось бы более подходящее применение, а может быть, даже цены бы им не было».