«…ОТДАЙ СЕБЯ, ДУШИ НЕ ПОЖАЛЕВ»
Русская правда в поэме Василия Дворцова «Правый мир»
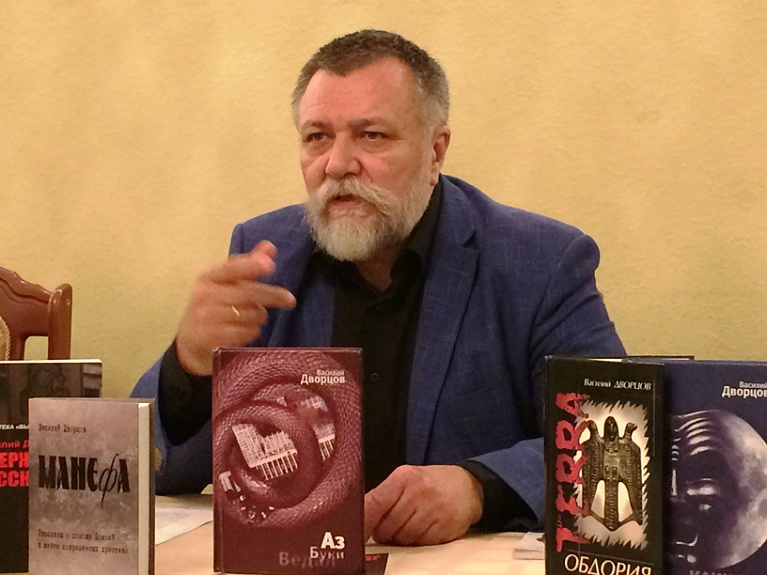 В последние десятилетия в русской лирике жанр поэмы отошел в тень и стал почти не виден за потоком малых форм. В свою очередь, короткие сюжеты сегодня в избытке наполнены предметами и явлениями малозначительными или частными, когда подробности личной жизни автора высыпаются на доверчивого читателя, как из рога изобилия. В этом смысле поэма – произведение строгое, все пункты которого связаны единым сюжетом, канвой событий или настроением, в котором, так или иначе, содержатся приметы времени, поступки и нравственная оценка происходящего. В советскую эпоху решалась еще и задача просветительская, когда повествователь вел своего рода разговор с современником, открывшим книгу. Ярким примером подобной интонации были поэмы Василия Федорова.
В последние десятилетия в русской лирике жанр поэмы отошел в тень и стал почти не виден за потоком малых форм. В свою очередь, короткие сюжеты сегодня в избытке наполнены предметами и явлениями малозначительными или частными, когда подробности личной жизни автора высыпаются на доверчивого читателя, как из рога изобилия. В этом смысле поэма – произведение строгое, все пункты которого связаны единым сюжетом, канвой событий или настроением, в котором, так или иначе, содержатся приметы времени, поступки и нравственная оценка происходящего. В советскую эпоху решалась еще и задача просветительская, когда повествователь вел своего рода разговор с современником, открывшим книгу. Ярким примером подобной интонации были поэмы Василия Федорова.
Вот почему для автора принципиально то, как он будет вести беседу со своим читателем, как он соотносится с лирическим героем сюжета, где в пространстве и времени находится точка, из которой освещается прошлое – семейное, любовное, историческое… Сиюминутное выпадает из традиционного облика русской поэмы, сливается со стихотворной публицистикой и стремительно исчезает со сменой исторической эпохи. Так случилось с многочисленными опусами Евгения Евтушенко.
Эпический строй в поэзии в наши дни востребован читателем, но невероятно труден в осуществлении. Лживое время искажает, кажется, любые ракурсы и низводит высокие слова до дежурных сочетаний. В особенности это касается исторических вех XX века. Художник, рискнувший взять в качестве основы для своего большого произведения страницы нашей недавней истории, должен обладать не только острым зрением, но и чувством меры, которое связывает его речь и не дает ей растечься словесным морем, показывая необходимую полноту деталей, изображающих картину литературно отчетливо и внятно.
Поэма Василия Дворцова «Правый мир» кажется вещью дерзкой и достаточно редкой для сегодняшней русской лирики. Ее сюжет выхватывает из прошлого детство главного героя на рубеже 1930-х годов, военные действия на озере Хасан, начало Великой Отечественной войны, Сталинградскую битву и схватку с Японией, послевоенное время. Перед нами летопись страны – и одной жизни. В таком единении можно найти уроки Твардовского. Тем более что конкретика боевых будней в его интерпретации стала почти эталоном для батальных эпизодов нашей поэзии.
Стоит выделить важные художественные акценты поэмы:
– язык;
– нравственная позиция автора и героя;
– цикличность сюжета, в котором наглядно перекликаются зачин с финалом;
– философские отвлечения и попытка взглянуть на земные коллизии сверху, с высоты парящего орла;
– лирические связки, обозначающие паузу в эмоциональном движении читателя по сюжету и позволяющие продолжить повествование с новой исторической точки;
– степень приближения авторской «оптики» к событиям и людям.
Язык поэмы разнообразен. Интонация варьируется от фольклорной – сказовой, с просторечием и диалектными словами, до песенной – с разговорными оборотами и житейской наглядностью. От сдержанной, изобразительной в описании огневого сражения – до яростно-лаконичной в показе сабельной сечи:
И сразу же из-под пурги в охват,
Махая саблями с визгливым гиком,
Волною пенной вздулся мигом
Румынской кавалерии отряд.
Да, вот оно! – и – «Шашки наголо!»
Да, вот оно! – и – россыпью навстречу
Как в праздник – в долгожданность сечи
Два эскадрона, радостно и зло.
Сошлись. Ударились до звона, до огня,
Так, что и кони в ярости вздурили,
И – наконец-то! Всё, как их учили –
Привстал в коротких стременах Илья.
Клинок при рубке вовсе не блестит,
Кисть, локоть и плечо в своей свободе –
Послал на выдох, потянул на входе –
Свист, хруст и … и – всё, убит.
Главней оружия в бою глаза:
Рубя врага, уж смотришь на другого.
Что совершил – не стоит дорогого,
Смотри везде, но только не назад.
Дух воина – не озверелый гнев.
Дух воина есть щит любви и веры.
За что ты здесь? За то и полной мерой
Отдай себя, души не пожалев.
Сокращая дистанцию между «наблюдателем» и событием, в насыщенную подробностями картину вводится экспрессия и психологически окрашенное отношение рассказчика к происходящему. Но главной цементирующей силой в поэме, стягивающей ее части в единый сюжет, остается лирическое начало, подчеркивающее родовую близость автора и его героя. Чувство рода и принадлежности к русскому корню, пожалуй, впервые за последние годы так явно и непротиворечиво по отношению к православной вере присутствует в отечественном лирико-эпическом повествовании.
Дóбре же, сынку, дóбре.
Наша руда не иссохне –
Христос нам поставлен примером,
За ним мы походствуем с верой,
Русскую правду храня.
Сама фактура языка здесь отличается редкой вольностью. Просторечие порой приобретает характер речевой волны, в которую погружается читатель, во многом не готовый к тому и старающийся слегка отодвинуть от себя течение лиц и событий. Но сюжет властно притягивает его, и первое ошеломление постепенно исчезает.
Название поэмы отсылает нас к древним славянским понятиям. Навь как темный и мертвый в своих основаниях мир проглядывает в эпизодах фашистского нашествия:
Тяжёлые снаряды – визг и вой –
Вбивались в насыпь, в избы, в огороды,
И поднимались, разрастались всходы
Цветов из ада, нави ледяной.
Ушедшая из повседневного обихода Правь находит себя в перекличке с православием и неявно столетиями присутствует в пространстве русской жизни в значении правильный, достойный, духовно верный, честный, мужественный, искренний в любви, хранящий память о прошлом. Все поступки действующих лиц в поэме оцениваются с названной позиции, потому что только она поддерживает последовательное созидание и безоговорочное продолжение рода.
Такие мы – под игом и в неволе
Сильнее мира чувством правоты.
Лирический герой в начале произведения предстает перед читателем мальчиком, задающим отцу наивные вопросы, в которых проглядывает сама суть русского бытия.
Бáтько, твои ладони –
Черпень для Океана,
Землю который качает
Под каганцами Стожар.
Бáтько, твоими плечами
Мир заграждён от невзгоды,
А лысина с белым шрамом –
Адамовая гора.
Ноги твои – ворота,
Шея – платан за гайтаном,
Свистнешь – у турок буря,
Зыкнешь – Кавказ затрусит.
Батько, ведь будет ладно,
Коли я тоже стану
Сильным, как ты, и смелым,
Истинным казаком?
В финале, уже будучи стариком, он сажает маленького внука на верного коня «поближе к холке», они выходят за ворота и неторопливо идут к лугу – к простору, который так сопряжен со свободой русского духа. Ребенок спрашивает деда о его подвигах на войне, о русском героизме, которым только и был спасен мир. Вновь звучат слова, будто волшебное эхо повторяя однажды сказанное: «…коли я тоже стану сильным, как ты, и смелым, истинным казаком? Деда, а, деда… Деда!!!»
Последний возглас похож на страстное вопрошание выросшего мальчика, обращенное к тени из прошлого: стал ли он сегодня таким, каким хотел быть вчера? Перед нами – осколок потаенного разговора старшего поколения с самим собой. И напутствие тем, кто сейчас только осознает себя и нащупывает почву, из которой произросла русская история.
Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"