ВЕТВЬ ДУБА
(Эссе)
ГОЛОВА ЩУКИ
Два рыболова, оба у меня бывают, в домике у Десны. Два антипода, зло подтрунивающих друг над дружкой…
И вот снится мне, что я наживил дождевичка-выползка, его называют ещё «зоревиком», на одинарный крючок. Эх, сокрушаюсь, такой червячок знатный, надо было его на тройник посадить — точно крупная рыбка клюнет. И, как в воду глядел, в быструю деснянскую, — взяла, чувствую, преизрядная рыбина. Только бы леска выдержала, молюсь. И ору:
— Петрович! Подсак! Неси подсак!!
Домик Петровича, одного из тех двух рыболовов, тоже над Десною, но чуть осторонь. Всё же, в утренней тишине должен бы услышать такой ключевой в рыбалке зов.
— Подсак! Скорее!!!
А сам тем часом вожу, подтягиваю рыбину, и уже по голове вижу, что села огромная щука. И начинаю размышлять: ну, куда мне она такая? Ладно, отдам голову Лексеичу (это другой из рыболовов, но он по Десне выше, до него не докричаться), а хвост, сколько сам отмерит, — Петровичу. Так. Ну а серёдку — куда? Она в моём микрохолодильничке не поместится даже в порубленном виде. Хорошо, серёдку отвезу в город третьему товарищу. Тот и удочки в жизни не держал, хотя рыбку любит. Магазинной довольствуется…
И пока так делил, проснулся.
«Почему это, — размышляю, — «Лексеичу голову хотел отдать? А-а, он же хвалился, что в морозильнике у него лежит щучья голова, варить из неё уху меня позовёт. Но всё варим да варим».
Зашёл Лексеич днём, рассказываю про сон, и он спохватывается:
— Надо замутить ушицу из той головы, а то, вишь, уже сниться людям начала.
К вечеру встречаю и Петровича, тоже пересказываю сон, а тот:
— Хорошо, что не поймал…
— ???
— Я, если мне снится рыба, обязательно заболеваю. Однажды две недели провалялся…
Но совсем поверг меня в священный трепет сосед Иваныч. Приехал на другой день и на мой рассказ мрачно заметил:
— Петрович прав. Рыба — это мясо, а когда оно мне снится, происходит что-нибудь очень скверное. Помнишь, меня блондинка за рулём сбила, когда дорогу переходил по зебре? Так вот, перед тем снилось мясо, и я ещё жене сказал утром: что-то случится поганое. Она заглянула в «Сонник», есть у неё такая толстая книжища, и подтвердила — не к добру. А тебе щука снилась. А ведь неспроста говорят «прищучило» — прижало в жизни чем-то. Тебе ещё повезло, что не вытащил.
— Да какая же тут связь может быть?!
— Не знаю, но что было, то было: приснилось — и сбылось…
Звоню дочери Наташе, психологу-аналитику, пересказываю и спрашиваю:
— Как это, через рыбу-мясо можно вперёд заглянуть?
— Заглянуть нельзя. Но дело в том, что так называемым предсказаниям свойственно самореализоваться. Мы как бы программируем событие своим допущением, что оно обязательно случится.
Но как же можно было запрограммировать блондинку за рулём, чтоб она внезапно выскочила из-за остановившегося перед зеброй автофургона и сбила спокойно переходящего Иваныча, да так, что он и через капот её иномарки перелетел?!
Как бы там ни было, а сам себе думаю: «Да, хорошо, что Петрович не прибежал с подсаком, и я её не успел вытащить, эту щуку». Но поделить успел… А вот русалку однажды я поймал во сне! И потом даже баллада сочинилась: «…Вкруг меня волны сиянье. И … русалку я держу!!!». А она — к чему?
Смешно и грустно: я уже и вспомнить не могу, сколько лет назад рыбачил по-настоящему, не во сне. Даже сомят лавливал на донку, щучку на жерлицу, судачка на поплавочную удочку. Однажды и царская рыбка, востроносая и усатая стерлядь, на пиявку позарилась, да, жаль, снасть оборвала… А уж окуньков, ершей, подлещиков, густеры и красноперки, карасиков золотых и серебряных сколько! И уха прямо на деснянской водице варилась, как мне до сих пор помнилось, превосходная.
До сих пор. До того часа, пока Лексеич не «замутил»-таки свою уху. И меня варить позвал. А уж уховар он в рыбацких кругах известный!
Водрузил котёл с родниковой водой над костром посреди лужайки на своём садовом участке на берегу Десны. Она здесь, у нас, точно красавица! И стал священнодействовать: положил на дно только что выкопанную и почищенную картошечку с морковиной, а сверху — два капустных листа («От них уха будет янтарной, радостной, а не серой» — пояснил). Сыпнул горсть трижды промытого риса (это лишь присказка у Лексеича такая — «замутить», а уха должна быть прозрачной, как слеза Чаушеску). Довёл кипение до белого ключа, и погрузил в пучину большую, накрест рассеченную, луковицу.
Тем временем на солнышке оттаяли замороженные её величество Щучья голова и рыбья мелочь — окуньки и густёрочки. Мелочь Лексеич опускал вниз головой по очереди каждую, чтобы рыбка, как бы сама, юрко и весело, ныряла в глубь. («Обязательно вниз головой!») И только потом осторожно положил Ея величество с ощеренными пилами острейших зубов. А далее пошли: горошины душистого и чёрного перца, тут же сорванные зонтики укропа и листик хрена, тройка листочков чёрной смородины, с пяток крупных зубчиков чеснока, лавровый лист. Соль стал подсыпать, пробуя уху на вкус.
— А зажаривать? — спрашиваю (вдруг упустил уховар?).
— За такое и пришибить мои друзья-рыболюбы могут. Они поначалу и от капустного листа шарахнулись: ты, что, щи варишь?! Листья капусты — это моё изобретение. Сам дошёл… О, и жирок даже плавает!..
И вот уже лужок в обрамлении садовых деревьев и огромных верб на берегу близкой Десны, как гигантская зелёная пиала, наполнился до краёв несказанными ароматами… Готово? Нет! Прежде, чем выставить уху на стол, Лексеич погрузил котёл по венчик в холодную воду и минут пять держал на весу за дужку: шло осветление…
Разливал Лексеич уху по глубоким тарелкам и половничком-то особенным — трофейным, перешёл от отца, воевавшего ещё с самураями. (Это ж сколько он перечерпал ушицы почти за три четверти века на просторах от моря Японского до речных плёсов Подесенья!) А на стол выставил из холодильника тут же запотевшую некую «Борисовку», зело крепкую и по вкусу под стать ухе…
Полкотелка — как не бывало. А остальное перенесли в мой домик — назавтра ожидался у меня гость, художник-философ Сергеич, и уха из щучьей головы потянула на главное блюдо. За беседой с другом — под уху с чаркой — незаметно и второй день пролетел… А ночью приснилась невиданная бабочка — с огромными, небывалой красоты крыльями. Она залетела в давно оставленный нами городской дом, билась о стекло, но как-то вяло, и я скоро поймал её с намерением выпустить после фотографирования. И, опять так же, как со щукой, я взывал во сне, но теперь к жене: «Скорее коробку неси!» И проснулся прежде, чем коробка нашлась…
Как и пойманная когда-то во сне русалка, эта бабочка — что вещует?..
Между тем, друг, художник и философ, принёс мне книгу «Бог» известного доктора богословия Алексея Осипова. Первая же глава открывается тютчевской строкой: «О вещая душа моя!» И разговоры «за ушицей» зашли у нас о вещах сверхъестественных. О душе (даже о том вспомнили, что учёным удалось взвесить её, оказалось, что-то около двенадцати граммов — чайная ложка соли в уху!). О воле, которой человек наделён при жизни, но которую и оставит здесь, переходя в мир иной. О не противостоящих друг другу, но не тождественных, — душе и мозге, вере и знании, нравственности и духовности… Словом, о матерях высоких и вещих. О столь же непостижимых, как предвидение, предчувствие и само-реализующиеся предсказания, которые нам ниспосылаются свыше — через те же душу и мозг. Но — Кем?!
Вручая книгу, друг сказал: «Её можно открывать в любом месте — и читать как откровение». Перед сном я открыл на страницах: слева — о выводе заокеанского учёного Кастлера, что самопроизвольное возникновение жизни столь же ничтожно, как если бы какая-нибудь обезьяна четыреста раз подряд напечатала Библию без единой ошибки; а на правой странице — о заявлении нашего отечественного академика, директора Института мозга, Натальи Бехтеревой: «Всю свою жизнь посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда, как мозг человека, без понятия Творца, практически нереально».
«ПОРОЙ ВЕСЁЛОЙ МАЯ…»
Почти за полвека (только цифры поменяй местами: 71-й год в Девятнадцатом веке на 17-й в Двадцатом) граф А. К. Толстой в сатирической балладе «Порой весёлой мая…» предсказал разграбление своей усадьбы в Красном Рогу. За полвека! Совпадение? Чудо предвидения?
Перед праздником поэзии в Красном Рогу читал подаренную В. Д. Захаровой её книгу «По следам Алексея Константиновича Толстого. Вымыслы и правда». Оказывается, и подверглась-то разграблению его усадьба именно в мае. (В мае же, предположительно, и стихотворение сочинено!) А участвовала в нём, как пишет Валерия Даниловна, «часть крестьян деревни Богдановка (она же Емельяновка)… Тащили всё, что можно унести….» У меня же как раз про Богдановку стихи, которые я и собирался прочитать на Толстовском празднике. Мысленно уже и увязку заготовил: поэт предвидел тот майский грабеж…
В его стихотворении «Порой весёлой мая…» два лада, сиречь влюблённые, прогуливаются по лугу, по саду. Она, очарованная, восторгается красотой вокруг, а он разочаровывает:
«Здесь рай с тобою сущий!
Воистину всё лепо!
Но этот сад цветущий
Засеют скоро репой!..
………………………..
…Есть много места, лада,
Но наш приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нём свежо и чисто!»
«Но кто же люди эти, —
Воскликнула невеста, —
Хотящие, как дети,
Чужое гадить место?»
«Чужим они, о лада,
Не многое считают:
Когда чего им надо,
То тащут и хватают» …
Да, сначала в погожий майский день, «порой весёлой», а потом майский «грабёж длился всю ночь» … Не собирался я лишь рассуждать о глубинных причинах того, почему «чужим… не многое считают» «люди эти» на Богом данной им земле, богдановцы. И хотел лишь воспользоваться тем давним событием, как поводом для объяснения последовавших драм в жизни и Красного Рога и «тащителей», а затем, как возмездия, и исчезновения самой деревни. Моё собственное стихотворение было посвящено последней богдановской избе (которая в начале уже XXI века, тоже подверглась разграблению, а потом и вовсе была разобрана по брёвнышку и вывезена):
…. Стоит изба, где в два порядка
Шумела улица в садах…
С великой горечью осадка
В колодце замерла вода:
Что? — Бог послал? Какие силы
Всех раскидали вдаль и ширь?..
Какие силы? Получив добротное образование в краснорогской средней школе, молодёжь Богдановки, других окрестных деревень стала на крыло и многие поднялись до изрядных вершин в культуре, науке, экономике. Через годы и годы оказалась возможной даже такая необыкновенная встреча в Кремле: вручались Государственные премии за достижения в науке и технике двум краснорогским одноклассникам, которые только тут и свиделись — спустя многие десятилетия и преодолев почти тысячевёрстное расстояние, их разделявшее…
Словом, было о чём сказать. Подошёл уже и момент, когда после брянских и приезжих записных поэтов можно было прочитать и своё-домотканное — об этих местах и земляках графа-поэта. Но что-то, чувствую, удерживает, не могу преодолеть. Наконец, и предлог не выступать нашёл: какой толк мне, литератору, читать стихи литераторам же, поскольку в основном лишь мы уже и оставались из чувства долга печься под солнцем на этом финише поэтического марафона…
Ни читать, ни говорить не стал. А потом от одного из тех лауреатов, которым вручались памятные медали в Кремле, и чьей последней в Богдановке избе я посвятил стихотворение, — от Григория Тихоновича Воробьёва, узнал:
— Если и грабили графскую усадьбу, то не богдановцы, это было бы у нас известно. Да и упоминаемые Валерией Даниловной фамилии — не богдановские. А Емельяновка, да, была такая деревня, буквально в сотне метров от нашей, но она ещё раньше исчезла. Ошибка произошла от того, наверное, что емельяновцы незаконно присвоили имя нашей деревни, а нашу именовали почему-то Гулёвкой.
Каковы, однако, эти емельяновцы, а?! Даже имя стащили! А, всё же, услышав это, я просто испариной покрылся. Вы скажете, ну, какая разница — та ли эта, да и что такое сотня метров… Но обвини хоть вас, стоявшего даже не в сотне метров, а десятке, да хоть и рядом, в том, что именно вы «тащили и хватали», каково вам было бы?
Хотя, конечно, по большому счёту, разницы нет. Как нет и чудесного предвидения А. К. Толстым будущего грабежа. Печаль-то графа о том, что «толпы… весь мир желают сгладить и тем внести равенство». И последние строки его пространной, из сорока четверостиший, сатиры таковы:
Российская коммуна,
Прими мой первый опыт!
Предвидение им майского грабежа было естественным. Оно посетило его в 1871 году, а ещё в 1848-ом был обнародован «Манифест Коммунистической партии». И «призрак», который уже бродил по Европе, не мог не заглянуть однажды майским днём в прекрасно-Красный Рог. И не мог не понимать граф, что возмездие грядёт. Это оно ещё и запоздало…
То уже было время тургеневских «Отцов и детей». По прочтении их Толстой писал: «Если бы я встретился с Базаровым, я уверен, что мы стали бы друзьями…» Так что неспроста известный публицист Буренин не преминул использовать именно «балладу с тенденцией» — «Порой весёлой мая…» — в пародии на вольнолюбивую тургеневскую прозу: «Притекши из коммуны / Во храм, где чтут науку, / Два лада, ликом юны, / Гуляют рука в руку», — так начал он свою «Балладу с полицейской тенденцией». А закончил словами, якобы «генерала Алексея Толстого», о том, что «нигилистам надо / Задать острастку строго…»
Собственно, уже и «Князь Серебряный» был предостережением Толстого имущим неограниченную власть над чёрным людом. Да — история, да — любовь… Но — и ярый протест против угнетения: разбои, грабежи, поджоги становились массовыми. К слову, он и закончил эту «историческую повесть» в самый канун (по совпадению?) ареста Чернышевского, как раз-то и призывавшего «внести равенство». Осуждение его Толстой, следуя прямодушному характеру своего героя, князя Никиты Серебряного, прямо и назвал, царю в глаза глядя, «несправедливым». А незадолго перед тем поставил эпиграфом к своему стихотворенью «Одарив весьма обильно…» тютчевские строки «Эти бедные селенья, / Эта скудная природа!». У Фёдора Ивановича они вырвались при подъезде к Овстугу и заканчивались элегически:
…Всю тебя земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
Многие (Чернышевский, Достоевский, Тургенев, Шевченко…) с восторгом цитировали, а то и воспроизводили целиком стихотворение Тютчева. А граф-поэт (князь-серебряный в нём), взял эпиграфом начальные строки, дабы возразить:
Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали —
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!
(Увы, увы! Вслед за Емельяновкой упало теперь и Богом данное, четыре века стоявшее, селенье Богдановка близ Красного Рога, и благословенные нивы вокруг вновь пустуют).
Точно так же не объяснить простым совпадением тот факт, что и в Овстуге, как в Красном Рогу, деление было на «белую» и «чёрную» кость. По воспоминаниям поэта-философа Владимира Соловьёва (вхожего, кстати, и в краснорогскую усадьбу), Анна Фёдоровна, дочь Тютчева, «презрительно относилась … к русскому простонародью, которое обвиняла в неисправимом мошенничестве и лживости». Она считала, что и муж её, славянофил, Иван Сергеевич Аксаков тем только значителен, что лишь наполовину русский и что лишь его татарская кровь да европейское образование сделали его культурным человеком, а не «русским дикарём».
Особенно же этакое «белое русофобство» проявилось в Бунине-дворянине. (К слову, большом почитателе творчества А. К. Толстого: «Совершенно очаровательный человек»; «Перечитывал стихи… — многое удивительно хорошо…») Тут важно заметить, что почти все дворяне стремились вести свои родословные от иноземных кровей, будучи выходцами из самого простого народа. Толстые, например, вели род от некоего немецкого «мужа честна Индриса», переселившегося на Землю Русскую «из Цесарские земли». А Бунины считали себя наследниками «мужей знатных» из шляхетской Польши. Между тем, как показали современные исследования, происходили они от крестьян Буней (спесивый, чванный человек). И это значение, увы, весьма подходит тщеславному нашему нобелианту, писателю, что и говорить, превосходному (даже Лев Толстой заметил его, ещё восходящего: «Так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего»). Тем разительнее — убийственнее! — в его устах оказалось слово.
Поначалу, в десятые годы, говорил ещё: «Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика: всё различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, так близко не связана, как у нас. Душа у тех и у других, я считаю, одинаково русская». Говорил так, словно и не ведал, что исподволь побуждало одних спесиво взирать на других, а тех — таить до «поры весёлой мая» истинные думы об «их превосходительствах» с неправедно нажитым ими «материальным превосходством».
Но вот выписывает «прозревший» Иван Алексеевич, уже в эмиграции, у Пушкина из «Капитанской дочки» нечто частное о «полудиких народах», коим присущи «легкомыслие и жестокость», и обобщает: «Это чудесное определение подходит ко всему рус. народу» (подчёркнуто им — А.Н.). А оставляя навсегда Родину, в мае 1918-го, ликует: «Мы на «немецкой» Орше – за границей…» (На «немецкой» потому у него в кавычках, что оккупированной). И продолжает со слезами: «Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!» Когда вспомнил сам о равенстве с ним? В начале июня 1917-го: «Чувство страшного возмущения… Волю свободной России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр., нет совета дворянских, интеллигентских, обывательских депутатов?» Годом позже, во время нашествия германца в 1918-м, когда были оккупированы не только Орша, но и родовое поместье Буниных: «Вести из нашей деревни: мужики возвращают помещикам награбленное». Материальное превосходство возвращается — «равенство» по-бунински восстанавливается!
И ненависть белого русского к «чёрному» была столь неистовой, что в пору второго немецкого нашествия м-сье де Бунин записал в октябре 1941-го в Каннах: «Взят Орёл… Нет, немцы, кажется, победят. А может, это и не плохо будет?» И это — после бесстрастной записи: «Вчера Cannes, купался… Юбочки лёгкие, коротенькие, цветастые, по-старинному простые, женств., которые носят нынешнее лето». И тут же: «Немцы пишут, что убили русских уже более 5 миллионов». Много? Так и неудивительно: «С неделю тому назад немцы объясняли… что в России война идёт с дикарями, не дорожащими жизнью, бесчувственными к смерти». Это позже немецкие генералы вынуждены были признать, что «русский солдат является достойным противником», что он «стоек, храбр, вынослив, грозен в обороне, стремителен в наступлении».
Лишь после перелома в войне случился перелом и у Бунина: «…до чего дошло — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай Бог, чего в дороге не случилось…» Но для этого понадобилось, чтобы барин в писателе сполна хлебнул в немецкой оккупации истинного равенства со всем остальным людом: «Дикая моя жизнь…» — писал в голодающей и холодающей оккупированной, практически без боя Франции.
Да и Джугашвили-Сталин вполне осознал величие русского народа, сплочённого перед смертельной бедой, должно быть, с несколько запоздалой виною — отсюда и речь его в победном тосте «за русский народ!». А Бунин-русак как раз в то самое страшное, в самое критическое время желал своему единокровному не победы, а поражения. И сочувствовал не его убитым миллионам, а — захватчиков: «Потери немцев чудовищны. Что-то дальше? Уже у Азовского моря – страшный риск…»
(Кстати уж, о «дикарях» и «зверях», а заодно и о «репе». В Калифорнии, где на бывших русских землях — были такие! — нашли золото, один из американцев тоже изумлялся (по сохранившемуся его дневнику времён золотой лихорадки): «Эти русские — странные, загадочные люди. Сидят возле золота, а быть может, и на самом золоте, однако интересуются им меньше, чем репой, хлебом и картофелем, которые они продают нам. Но не дай бог тронуть их землю — они будут сражаться за неё, как дикие звери!» Достаточно было сегодня заразить «дикарей» вирусом этой лихорадки — как Богом данная земля скоро пришла в запустенье. Как и в Калифорнии, она, с нефтью и золотом, с иными дорогими ископаемыми, с плодородными нивами, лесами и водами, — вожделенна для новых оккупантов. Пробудится ли в роковой час «зверь», когда посягнут тронуть?)
Жизнью распалённого до белого каления И. А. Бунина как бы продолжилась элегически серебряная жизнь А. К. Толстого (Ванюше-помещику исполнилось только пять лет, когда граф упокоился в Красном Рогу). Можно было бы и списать бунинскую горячность на то же свойство русской души, так сильно выраженное Толстым:
…Коль ругнуть, так сгоряча
Коль рубнуть, так уж сплеча!,
- да только горячка Бунина оказалась затяжной, выжигающей душу…
Ну, и чего иного они все, баре, могли ждать от простонародья в день весёлый мая? Посеешь ветер – пожнёшь бурю. Мыслю так не столько в осуждение, сколько из стремления понять чудо предвидения ими бури.
В том же начале 70-х позапрошлого века ощутил дыхание этой бури и владелец овстугского имения, Ф. И. Тютчев. Так и писал: «… невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметёт всю эту ветошь и всё бесчестие… конечно, для этого потребуется не менее чем дыхание Бога — дыхание бури…» И она, буря от «дыхания Бога», пронеслась — над Богом же данной Богдановкой и ещё над шестнадцатью тысячами помещичьих усадеб «порой весёлой мая» в 1905-07 годах, а окончательно «смела всю эту ветошь» в 1917-м… Только окончательно ль? Вот прошёл век, и миновал 2017-й, с теми же переставленными двумя циферками, арабскими — с 71 на 17 (и римскими – в XIX веке, а теперь и в XXI-м), и мы в раздумье: а в самом ли деле исчерпан лимит на «дыхание Бога»?
Примечательно, что А. К. Толстой с 1857 года, как пишет В. Д. Захарова, перестал общаться с Н. А. Некрасовым, поэтом-собратом, но поэтом революционно-демократических убеждений. И даже предостерегал жену, Софью Андреевну: «Я не буду доволен, если ты познакомишься с Некрасовым. Наши пути разные». Вскоре это и подтвердилось их творчеством: в одни и те же годы Алексей Константинович пишет «Порой весёлой мая…», а Николай Алексеевич — поэму «Кому на Руси жить хорошо». Своё объяснение их расхождению дал потом, в 1907 году, литературовед Н. А. Котляревский. Его статью разыскал брянский писатель-краевед В. Г. Деханов, вот отрывочек из неё: «… Некрасов своей поэзией давал нам чувствовать весь ужас социальной неурядицы и борьбы, которая свирепела. Алексей Константинович хотел смягчить это ощущение боли и гнева… Одна песня была боевым знаменем, другая хоругвью».
По совпадению(!), Владимир Григорьевич подарил мне свою книгу «Венок Алексею Константиновичу Толстому» с приведенным отрывочком не где-нибудь, а в Красном Рогу и в тот самый день, когда я передумал выступать со своим стихотворением о краснорогской Богдановке.
Совпадения. Такие же, как и «майский день» уравнительной растащиловки, как тайные «маёвки» в лесах, радостный Первомай (Всемирный день трудящихся, кто забыл) и незабываемый День Победы, праздник со слезами на глазах 9 мая. И, конечно же, тютчевское «люблю грозу в начале мая»! И толстовское признание (но это уже в «Сватовстве», написанном одновременно с «Порой весёлой мая…»):
Поведай, песня наша,
На весь на русский край,
Что месяцев всех краше
Весёлый месяц май!
Все — из тех случайностей, коими столь богата жизнь. В ряду их, например, отчество Валерии Захаровой, истинно ревнительницы правды о графе А. К. Толстом, — Даниловна. Согласимся, не слишком часто употребляемое. Даже редкое. В Брянском крае две столь крупные духовные святыни — Красный Рог и Овстуг. Обоими литературными музеями в них заведовали тоже… Данилычи — Трушкин Михаил Данилович и Владимир Данилович Гамолин.
Удивительно и не более. Как и то, что, поменяв местами две последние цифры в 1848-м — в году обнародования Коммунистического манифеста, получим 1984-й — последний год перед приходом к власти человека, который, как сам заявил впоследствии, только и мечтал покончить с коммунистической идеологией…
…Да, совпадения. А вот же, невольно думается: кем и зачем-то же ниспосылаются эти удивительные совпадения? Не затем ли, дабы, прогуливаясь по саду с милой ладой, споткнулись о них, остановились и оглянулись: воистину ли в «приюте тенистом» всё так лепо? И только ли ради рифмы опять просится в сад репа…
Возможно, не более, чем любопытно, и то, как сам Алексей Константинович относился к сверхчувствительности (к экстрасенсорике, как теперь принято обозначать сие явление, включающее и дар предвидения). В мае (опять же, в мае!) 1852 года он пишет письмо своей будущей жене (сиречь, ладе) Софье Миллер о всемогуществе веры:
«Просить с верой у Бога, чтобы Он отстранил несчастие от любимого человека — не есть бесплодное дело, как уверяют некоторые философы… Прежде всего молитва производит прямое и сильное действие на душу человека, о котором молишься, так как, чем более вы приближаетесь к Богу, тем более вы становитесь в независимость от вашего тела, и потому ваша душа менее стеснена пространством и материей, которые отделяют её от души, за которую она молится. Я почти-что убеждён, что два человека, которые бы молились в одно время с одинаково сильной верой друг за друга, могли бы сообщаться между собой, без всякой помощи материальной и вопреки отдалению. Это – прямое действие на мысли, на желания, и потому – на решения той сродной души… Чтобы отрицать это косвенное действие, надо было бы отрицать предопределение, что не мыслимо». (Выделено мной, А.Н.)
Предвидением предопределённого — Богом ли, судьбой, а вернее всего, уже ощущаемым «ужасом социальной неурядицы и борьбы, которая свирепела», «дыханием бури», — и преисполнены предсказания великих наших поэтов. Как не любить, не почитать обоих — и Толстого, и Тютчева? Как не восторгаться их, из глубин души исторгнутыми и из необъятной вселенной льющимися, песнопениями! Но ведь и слова из песни не выкинешь.
РЕДКАЯ БАБОЧКА АПОЛЛОН
В июльский день (тут надо быть точным: было это в среду 10 июля 2002 года) побывали мы с почвоведом, доктором сельскохозяйственных наук, Г. Т. Воробьёвым у знаменитого нашего садовода-селекционера, тоже доктора с.-х. наук, А. И. Астахова. С полудня до восьми вечера — хватило времени о чём только ни переговорить!
И перво-наперво, конечно, о почве под его садами, ведь не кто иной, как Григорий Тихонович и выбирал когда-то подходящий участок для НИИ люпина, при котором вскоре и развернул свою вдохновенную деятельность Александр Иванович. Меня смутил ответ садовода на вопрос почвоведа, какую роль играют почвы при выведении сортов: а, практически, говорит, никакого. Ну, думаю, нанёс садовод почвоведу смертельную обиду. Ничуть: «Ещё бы! — добродушно рассмеялся Григорий Тихонович, — такие почвы, как у тебя, ёмкие, конечно, почти никакой специальной роли и не могут играть. Они пригодны для всех пород. Вот я какие тебе подобрал!»
Свою докторскую Александр Иванович защищал не как все, а лишь по сорокастраничному обзору собственных публикаций о выведенных породах. И я как-то, принимая гостя-селекционера у себя, спросил: «А не страшно вам предстать потом перед Богом, вы ведь вступили с ним в соперничество?» — «Ну, что вы, — отвечал он. — Бог мне помогает, иначе зачем бы и дар такой дал!»
Теперь же он водил нас по своим сортоиспытательным участкам — с удивительными, каких в данной Богом природе нет: малиной, чёрной и белой смородиной, с крыжовником и крыжовнико-смородиной, шпанками, вишнями, орехом. Завёл и в теплицу-оранжерею с черенками новых сортов. Показал и яблоню, которой дал имя друга-почвоведа — «Воробьёвская». Посидели за его домашним плодово-ягодным вином на полянке, возле ели обыкновенной, к которой Александр Иванович привил ель голубую. Тут он нам и стихи свои почитал: одно о природе, другое, тихим голосом, совсем не так, как читают записные поэты, стихотворение, обращённое к жене, к семье… (Потом они будут изданы книжечкой «Голос души» в 200 экземплярах — для друзей, и откроет сборник его четверостишие:
Сорта смородины, малины, вишни, сливы,
Черешни, яблони заявят обо мне.
Пусть не богат я, но зато счастливый,
Знать, не напрасно прожил на земле).
И при одном из переходов от участка к участку я вдруг оторопел: над цветами у дорожки вились в танце сразу два Аполлона. Бабочка ныне редчайшая! На мой возглас удивления Александр Иванович отреагировал деловито: «Надо отловить для коллекции». — «Да вы что, это же краснокнижные!» — «У нас они обыкновенные, каждый год тут постоянно водятся».
Ровно через пять лет, в такой же июльский день (и опять, для точности: было это в среду 4 июля 2007 года) в заповеднике «Брянский лес» я стал участником следующего разговора. Тогдашний директор Ю. П. Федотов похвалился в кругу сотрудников и гостей, что список редких и исчезающих животных, занесенных в Красную Книгу России, пополнился в заповеднике бабочкой Аполлон:
— Возможно, в нашей области это, вообще, единственное место, где она встречается.
Я поправил:
— И ещё — под Брянском, сам видел сразу двух.
Юрий Петрович поправку принял:
— Так и запишем: со слов А. Т. Нестика…
— Нет, — воспротивился я, — сослаться нужно на более авторитетного свидетеля…
— А-а! — пошутил присутствовавший при разговоре создатель заповедника И. П. Шпиленок: — Боитесь ответственности?
— Отчего ж, Игорь Петрович? Но есть действительно очень авторитетный свидетель — доктор наук, известный селекционер Астахов Александр Иванович, у него в саду эта бабочка, по его словам, встречается часто и ежегодно…
Возвращаюсь в Брянск, а мне звонок: «Умер Астахов». — «Когда?!» — «Во вторник». Значит, в среду, когда он был упомянут в разговоре возле конторы заповедника, гроб с его телом уже стоял на столе. Потрясённый совпадением, говорю об этом Григорию Тихоновичу Воробьёву, а он спрашивает:
— А где находится контора?
— «Невдалеке от станции «Нерусса».
— Так это же всего в десяти километрах от Селечни, родины Александра Ивановича! Он дорожил памятью о ней, даже один из сортов яблони назвал «Селеченская»…
Проще поверить, что душа покойного вселилась в прекрасную редкую бабочку Аполлон, чтобы прилететь в родимый край. (Так бабочки, за десятки вёрст, отзываются на феромоны — нечуемые нами запахи). Но — на имя?! Ведь не сама бабочка прилетела, а только вслух названа была по имени… Впрочем, почему же в имя вселилась, а не в мыслеобраз бабочки, верно носимый мною пять лет — со среды июля 2002-го до июльской же среды 2007-го? Да и поныне.
В рождественские дни своего рокового года он написал, словно предвидел уход, и завещал:
…Мы в этот мир пришли нагими
И голыми в тот мир уйдём.
Богатство — призрак ложный, мнимый —
Ничто с собой не заберём.
Живите же со словом Божьим,
Своё тщеславие смирите.
И действием неосторожным
Природе, людям не вредите.
Он не соперничал с Богом, он был селекционером от Бога, со-творцом, пусть и в несоизмеримо разновеликом соотношении.
Размышляю. Отлетающий дух подобен парящим, распространяющимся феромонам (с их феноменом «ключ-замок»). И он находит тех, кто духовно связан был при жизни, либо кто с чувством подумал в тот миг о нём. То есть, нечто физическое (ключ) «испаряется» и отзыв на него (скважина замка) может быть лишь у того, кто даже не думает сейчас о нём, но имеет эту «скважину», всегда открытую для «ключа»…
«АЛЁНУШКА, ДОЧЕНЬКА!..»
Из рассказа героя моего газетного очерка «Четвёртая жизнь», Владимира Кузьмича Рогового, 80-летнего инженера проектного института «Брянскгипроводхоз».
В селе Ракитном Белгородской области, откуда он родом, председателем колхоза была молодая учительница. Она потеряла в войну мужа и сразу обоих детей — сын Олежка погиб при бомбёжке состава, в котором сама же и сопровождала большую группу детей в глубь тыла; её, тяжело раненную, оставили, а дочку, Алёнушку, отправили куда-то другим поездом. Поиски потом оказались бесплодными.
Когда после засухи 1946 года началась повальная голодовка сорок седьмого, видеть пухнущих и умирающих детей ей было особенно непереносимо, и, не сказавшись о том вышестоящему начальству, отправилась в столицу, к Самому. Вождь принял, выслушал, и, прощаясь, сказал: «Возвращайся домой, помощь будет оказана». И точно: на ближайшей железнодорожной станции её приезда дожидался вагон зерна с распоряжением — раздать по одному пуду на душу. Лежавший при смерти Володя, будущий герой моего очерка, с апреля поднялся и пошёл на поправку. В школу не мог ещё ходить, но его, как отличника в прошлом, экстерном перевели в седьмой класс. С тех пор своим спасителем считает Сталина.
Для самой же председательши тот отчаянный поступок обернулся добром — нашла потерянную в войну дочь! Случай настолько удивительный, что он долго не давал покоя Владимиру Кузьмичу. И где-то на тридцать пятом году своей жизни, он, инженер-водохозяйственник, поступает в общественный университет журналистики при областной газете с намерением подучиться и написать о том случае документальную повесть. Писал, говорит, по страничке в день, исписал две «общих», как тогда назывались толстые, по 96 листов, тетради. И обе потом безвозвратно потерял. Потеря таких письменных свидетельств очевидца невосполнима. Но теперь хоть из уст его важно восстановить случившееся.
Вкратце же, произошло с героиней его документальной повести, рассказывает, вот что. Когда её, раненную при бомбежке поезда, уносили, протянула она к остающейся дочери руки, успела выкрикнуть, из души исторгнуть, «Алёнушка, доченька моя!», и потеряла сознание. Сразу после великого танкового сражения под Прохоровкой село Ракитное было освобождено, тогда и избрали её председателем колхоза. В том знаменитом сражении участвовал и её муж, его отпустили на одну ночь домой. Навсегда, как оказалось, оставляя дом, он завещал: родится сын, назовёшь Олегом, дочь — Алёной, в память о потерянной. Родилась дочь.
Шло время. Свою спасительницу от голодной смерти ракитнянцы выдвинули на первых же выборах кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. И вот в Москве, будучи по какому-то депутатскому делу, зашла на ВДНХ, а там вдруг увидела она свою потерянную дочку… в том же детском возрасте! И опять, с тем же возгласом, упала без чувств. Отец девочки вызвал «скорую», а дома, в Киргизии, рассказал об этом странном происшествии своей жене. Та вспомнила, как точно так же к ней протянулись когда-то руки — «Алёнушка, доченька!..» И всё поняла: её собственная дочка была очень похожей на неё самую в детстве.
Не медля ни минуты, Алёна бросилась на вокзал: в Москву! Но доехала лишь до Джалал-Абада. Билетов на Москву не было, и тогда, идя ей навстречу, по вокзальному радио объявили просьбу уступить, кто сможет, место дочери, едущей к больной матери. Смогла старушка, ехавшая к сыну: не к спеху, мол, если поменяете мне билет на завтра…
Состояние больной было тяжёлым и непонятным: приходя в сознание, она твердила, что нашла дочку, и опять проваливалась в беспамятство. Домашние в Ракитном, узнав о беде, повезли ей в Москву Алёну-вторую, родившуюся после битвы на Курской дуге. Там, в палате «кремлёвки», и встретились две Алёнушки одной матери…
Объяснить столь невероятное совпадение невозможно, если не предположить ещё более невероятное: душевные страдания женщины столь велики, что не только вождя тронули в своё время, но и Того, кто судит нас по делам земным. За добро ей было воздано добром.
ВЕТВЬ ДУБА
В одну из ночей в конце сентября бушевал ветер. Ломалась погода. И утром довелось в сквере шагать-хрустеть по веткам, а через большие и переступать. Поднял одну и увидел уже знакомый, сглаженный, как на кости в суставе, облом. Ясно, наступила пора ветвепада. У тополя и его сестрицы осины, у дуба и вяза (родичи по песне: «Из-под дуба, из-под вяза, из-под ивова коренья…»), да, кстати, и у некоторых ив тоже — время сброса части ветвей приходится на раннюю осень, когда на них ещё зеленеют листья. И оттого кажется этот повальный сброс загадочным. Особенно, если узнаёшь, что он не был внезапностью для деревьев, а подготавливался ими же самими ещё с лета. Зеленели, будучи обречёнными?!
Впервые об этом явлении узнал от покойного уже профессора-лесовода Ивана Семёновича Марченко. До того считал, как и все, что наблюдаю бедствие — ветер набедокурил. А профессор принёс как-то веточку, осиновую, кажись, показывает:
— Посмотри на место облома. Как шляпка шиферного гвоздя, гладкое и чуть выпуклое. Дерево только и дожидалось, чтобы налетел ветер, раскачал и помог ему скорей освободиться от лишних веток. Я однажды посчитал ветви, сброшенные только одним тополем в селе Негино, запомнил, это было 27 сентября. Так знаешь столько? — выждал паузу для вящего впечатления: — Двести шестьдесят шесть! И все в том возрасте, когда только расти бы им и расти — от одного до десяти лет.
Смысл явления как будто понятен: не хиреть же всему дереву, если, допустим, не хватает в почве под ним питания, или в случае повреждения корней, либо ввиду грядущего за осенью-зимой засушливого лета (деревья знают: солнечные циклы — в их памяти). Руководствуясь высшей целесообразностью, дерево и сбрасывает часть ветвей ради процветания остальных: роль ваша сыграна, напитали меня углеродом, сами пожили, будьте добры, ступайте теперь с миром за кулисы жизни. Но это, что же, — есть, значит, у дерева центр целеполагания?
Иван Семёнович искал объяснение явлению преднамеренного ветвепада в существовании лесного биологического поля. (Подробнее о лесном биополе — в Третьей части книги). Именно полем, как режиссёром, посылался управляющий сигнал. Меня же больше интриговало, иное: как созревало решение, кем вынашивалось, на каком языке формулировалось — такой-то ветке отмереть. Сопротивлялась ли обречённая? Коль зеленела, то на что-то же ещё надеялась? Или сознательно жертвовала собою, до последнего часа работая на «зелёное братство»? Поле полем, но, в любом случае, решали двое — дерево и его ветвь.
…Между тем, когда я перешагивал в сквере через вороха отторгнутых деревьями их же родных кровинок, шёл ветвепад 1998 года, и исполнялось два месяца со дня отторжения жизнью самого исследователя лесного биополя. Умер так внезапно, что невольно я к нему же и применил его гипотезу. Незадолго до смерти случился у нас примечательный разговор. Я был под впечатлением только что прочитанного романа Леонида Леонова «Пирамида». Рассказываю Ивану Семёновичу об одной из коллизий романа: природа устраняет почти докопавшегося до её тайны тайн. Говорю: вам-де не страшно, что и вы подошли вплотную к разгадке важнейшей тайны природы? Он тогда только рассмеялся, сравнение польстило ему…
(Как-то захотелось узнать, а занимается ли кто биополем и ветвепадом в «лесном институте» после смерти Ивана Семёновича. Встречаюсь с лесоведом, доктором наук Василием Петровичем Тарасенковым, зовём и работающего на кафедре сына марченковского, — никто, даже сын…
На прощанье Тарасенков дарит мне книгу, которую с большим интересом он сам прочитал, «Живи». А в ней первые станиц двадцать-тридцать — о ветвях. Но он же не знал, что я приду к нему с разговором о ветвепаде! Увы-увы, нет уже и Василия Петровича. Тоже беззаветно отработал до дня последнего на зелёное братство брянских лесов).
Дома, в этот же(!) упомянутый сентябрьский день ветвепада, узнал по телевизору и о смерти актёра-режиссёра Ролана Быкова. Передают последнюю беседу с ним, и слышу:
— У дуба забота, чтоб всё дерево росло. У ветви дуба — прорваться к солнцу. Когда я актёр, я весь рвусь к солнцу. Иное дело, когда я режиссёр…
Глядя-слушая телевизор, я обычно ещё и листаю книгу, заглядываю в газету. Вот и в этот раз скользнул взглядом по книжным полкам. Но потянулся почему-то к самой дальней, подпотолочной. Извлёк толстовский «Круг чтения», тыщу лет в него не заглядывал. Тут же листнул, продолжая слушать Быкова, и взгляд мимо воли выхватил мысли о том же — о якобы разных целях отдельного и целого в Живом!
«То, что мы сознаём себя существами, отделёнными от других, и другие существа отделёнными от себя и друг от друга, есть представление, вытекающее из условий жизни во времени и пространстве. Чем более уничтожается эта отдалённость, тем более мы признаём своё единство со всеми живыми существами, и тем легче и радостнее становится наша жизнь». И далее он укрепляет свою мысль, как это у него было заведено в «Круге чтений», текстами из Библии, из Марка Аврелия и Паскаля… После чего заключает: «сознание единства нашего существа со всеми другими проявляется у нас любовью. Любовь есть расширение своей жизни. Чем больше мы любим, тем обширнее, полнее и радостнее становится наша жизнь».
Мысль по-толстовски глубокая и дальняя — о человеке и человечестве. О человеке и обо всём сущем. Ну, а у не человека, у просто существа и у всего сущего, у них на чём связь? У дуба и ветви? — перекинулся я на марченковско-быковское. Тоже на любви? К чему?
Всё же: а что выписал Лев Толстой для «Круга…» у Марка Аврелия? Читаю, ещё раз поражаясь совпадениям: «Ветвь, отрезанная от своего сука, тем самым отделилась и от целого дерева… Но ветвь отсекается посторонней рукой, человек же отчуждает себя от ближнего своей ненавистью и злобой, не ведая, правда, что он тем самым отрывает себя от всего человечества». О естественности ветвепада ни Толстой, ни Аврелий, тем более, не ведали. Впрочем, они и писали-то прежде всего о человеке.
О том же и толстовские выписки из Послания апостола Павла к коринфянам: «Тело же не из одного члена, но из многих… Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены». Понятно: если бы актёр Быков сыграл плохо в фильме Быкова-режиссёра, пострадал бы и Быков-весь. Если бы ветвь, рвущаяся к солнцу, не подчинилась бы управляющему сигналу, не поздоровилось бы ни всему дубу, ни ей вместе с ним.
И вот, наконец, Паскаль: «Человек часто думает, что он — всё, и не видя тела, от которого он зависит, думает, что он зависит только от самого себя, и хочет самого себя сделать центром и телом…» Да! Это то, чем закончится антропоцентризм для здоровья матери-Природы. Но продолжим: «…Когда же наконец, человек доходит до понимания своего назначения, он как бы возвращается к себе, сознаёт, что он не всё тело, а только член всеобщего тела, что быть членом значит, иметь жизнь только через жизнь и для жизни всего тела… и что любить себя надо только для этого тела… Всякая больше этой незаконна».
Представить можно, как обрадовался Лев Николаевич этакому своему единомышленнику из предыдущего века!
А далее Паскаль высказывает сокровенное, чему, кажется, уже не успеть сбыться за короткий век отношений человека-веточки и человечества-ветви, человечества-ветви и природы-дерева (биосферы), как единого для всех нас тела, но что воплощено за сотни миллионов лет в высшей гармонии отношений членов каждого отдельного тела, в отношениях дуба и ветви его. «Члены нашего тела, — восхищается Паскаль, — не чувствуют счастья своего соединения, своего удивительного согласия, не чувствуют того, как заботилась природа, внушив им дух согласия…»
Согласие — лишь со-гласие, лишь со-глашение, договор, а не сама любовь. Естественным ли только отбором отредактирован текст этого соглашения, великого Договора?
Дерево родило ветвь, как мать — дитя. Но не дерево умерло для ветви, как, случается, жертвует собою мать ради своего ребёнка. Для неё ребёнок и есть то дерево, её продолжение, у подножия ствола которого она сама без раздумий по какому-то высшему согласию готова упасть подрубленной. Высшее здесь и есть любовь по Толстому.
Так это ещё у человека-особи. Но не у покорной ветви дуба. Не у муравья, нарочно, хотя и неосознанно увязающего в расплавленной зноем живице, чтобы по нему прошагала колонна собратьев, оставляя его самого навек в янтаре. Да и не у славного некогда древнего Коринфа, погрязшего затем в разврате (в связи с чем и родилось апостольское послание его горожанам, но в назидание всем) и сожжённого, пришедшего навек в упадок. Какая тут и к кому любовь?! Тем паче, тем паче — не у гибнущего целого народа, уступившего совсем не из со-гласия и тем более не по любви, собственное жизненное пространство на всём северо-американском континенте.
Как знать, не доведётся ли и всему человечеству, по какому-то согласию, над-бытийному, в природе, уступить вот так же, или иначе как, своё пространство в околосолнечном мире? Живём покудова. А может, уже отдаём тем самым жизнь — через жизнь! — для Жизни в самом высоком смысле…
Вот так неожиданно сошлись у меня собеседниками из разных времён ушедшего двухтысячелетия — апостол Павел, император Аврелий, философ Паскаль, писатель Толстой, лесовод Марченко, актёр-режиссёр Быков… И — из разных пространств. Со времени посланий апостола Павла наша планета — с учётом того, что она, вращаясь вкруг Солнца, а Солнце — вокруг центра Галактики, который тоже не стоит, а несётся по Млечному пути в расширяющейся Вселенной, — проделала немыслимо сложный путь. И на этом пути словно бы рассеяны-поразбросаны, оставлены в разных точках пространства единомышленники. Как реперные точки, столбики. И то, что всех их, отстоящих и во времени, и на космически гигантских расстояниях друг от друга, объединяет одна и та же мысль — о дубе и его ветви, — не свидетельствует ли краше всего: жизнь едина, как древо-дуб, а мы все — только ветви её. И наш ветве-жизнепад нужен, чтобы продолжалась Жизнь.
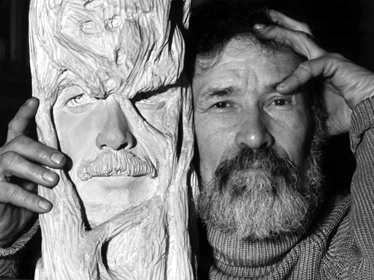 Александр Тимофеевич Нестик родился в 1936 году в г. Константиновка Донецкой области.
Александр Тимофеевич Нестик родился в 1936 году в г. Константиновка Донецкой области.
С 1959 г., после окончания химико-технологического института, его жизнь оказалась связана главным образом с Брянским краем. Профессиональная деятельность началась на цементном заводе, профессия же привела в газету «Брянский рабочий» — экологом в строительный отдел. Александра Тимофеевича как главного редактора «Брянского рабочего» сотрудники ценят по сей день, для редакции он и желанный гость, и ценный внештатный сотрудник.
А.Т. Нестик — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР.
Подборка, предлагаемая к прочтению, - произведения, написанные в жанре краеведческой философии, если, конечно, есть такой жанр…
Ольга Горелая, г.Брянск
Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"